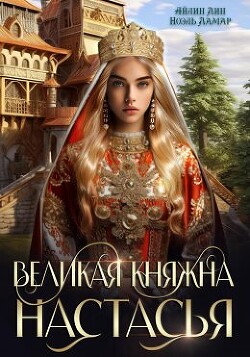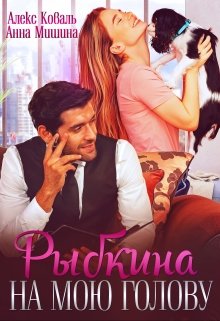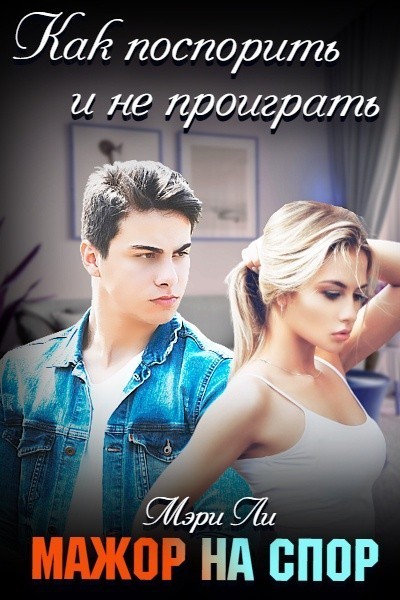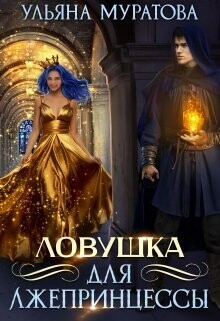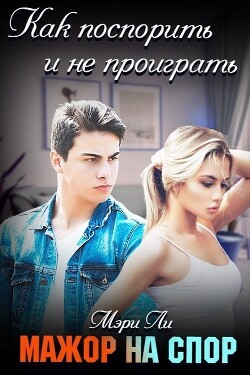Фёдор Шаляпин - «Я был отчаянно провинциален…»

Помощь проекту
«Я был отчаянно провинциален…» читать книгу онлайн
Даже когда я подходил к инструменту, взрослые строго кричали:
– Смотри, – сломаешь!
Зато, когда я захворал, так спал уже не на полу, а на клавесине. Иногда мне казалось: что если открыть крышку да попробовать, – может быть, я уже умею играть?
Я долго возлежал на клавесине, и странно было мне: спать на нем можно, а играть нельзя! Вскоре громоздкий инструмент продали за 25 или 30 рублей.
Мне было лет восемь, когда на святках или на пасхе я впервые увидал в балагане паяца Яшку.
Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге, как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, – «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовый, сорванный и хриплый голос, – весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей, – я был уверен, что все люди и даже сама полиция, и даже прокурор боятся его.
Я смотрел на него, разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки:
– Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! – кричал он в толпу, стоявшую пред балаганом.
Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то истрепанную куклу, он орал:
– Прочь, назём, губернатора везём!
Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.
«Вот это – счастье, быть таким человеком, как Яшка!» – мечтал я.
Все его артисты казались мне людьми, полными неистощимой радости; людьми, которым приятно паясничать, шутить и хохотать. Не раз я видел, что, когда они вылезают на террасу балагана, – от них вздымается пар, как от самоваров, и, конечно, мне в голову не приходило, что это испаряется пот, вызванный дьявольским трудом, мучительным напряжением мускулов.
Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яков Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, «к представлению», так непохожему на действительность. Скоро я узнал, что Мамонов – сапожник и что впервые он начал «представлять» с женою, сыном и учениками своей мастерской, из них он составил свою первую труппу. Это еще более подкупило меня в его пользу – не всякий может вылезть из подвала и подняться до балагана! Целыми днями я бродил около балагана и страшно жалел, когда наступал великий пост, проходила пасха и фомина неделя, – тогда площадь сиротела, парусину с балаганов снимали, обнажались тонкие деревянные ребра, и нет людей на утоптанном снегу, покрытом шелухою подсолнухов, скорлупой орехов, бумажками от дешевых конфет. Праздник исчез, как сон. Еще недавно все здесь жило шумно и весело, а теперь площадь – точно кладбище без могил и крестов.
Долго потом мне снились необычные сны: какие-то длинные коридоры с круглыми окнами, из которых я видел сказочно красивые города, горы, удивительные храмы, каких нет в Казани, и множество прекрасного, что можно видеть только во сне и в панораме.
Мы переехали в Татарскую слободу, в маленькую комнатку над кузницей, – сквозь пол было слышно, как весело и ритмично цокают молотки по железу и по наковальне. На дворе жили колесники, каретники и, дорогой моему сердцу, скорняк. Летом я спал в экипажах, которые привозили чинить, или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром.
Скорняк был черноволосый и черноглазый человек с восточным лицом – он давал мне работу: раскладывать по крыше для просушки разные меха и потом выколачивать их тонкими, гибкими палочками, за что он платил мне пятак. Это было большое богатство и счастье для меня. За две копейки я мог идти в купальню на озеро Кабан, где во «дворянском» отделении я плавал до того, что от холода становился синим, точно плотва. Брата и сестру мне нельзя было брать с собой на озеро, они еще маленькие; брат – живой мальчуган, веселый и способный, а сестренка – тихая, задумчивая, я звал ее «нюня». На заработанные мною деньги я покупал им халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубы в белую массу каменной твердости. Было забавно, когда эта странная штука крепко сцепит челюсти, а потом становится вязкой, как сапожный вар, и тает, наполняя рот молочной сладостью и мелом.
Помню веселого кузнеца, молодого парня, он заставлял меня раздувать мехи, а за это выковывал мне железные плитки для игры в бабки. Кузнец не пил водки и очень хорошо пел песни, забыл я имя его, а он очень любил меня, и я его тоже. Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя с работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня:
– Валяй, Федя, валяй! Пой – на душе веселей будет! Песня, как птица, – выпусти ее, она и летит!
Хотя на душе у меня и без песен было весело, но – действительно – бывая на рыбной ловле или лежа на траве в поле, я пел, и мне казалось, что когда я замолчу, песня еще живет, летит.
Однажды я, редко ходивший в церковь, играя вечером в субботу неподалеку от церкви Св. Варлаамия, зашел в нее. Была всенощная. С порога я услышал стройное пение. Протискался ближе к поющим, – на клиросе пели мужчины и мальчики. Я заметил, что мальчики держат в руках разграфленные листы бумаги; я уже слышал, что для пения существуют ноты, и даже где-то видел эту линованную бумагу с черными закорючками, понять которые, на мой взгляд, было невозможно. Но здесь я заметил нечто уже совершенно недоступное разуму: мальчики держали в руках хотя и графленую, но совершенно чистую бумагу, без черных закорючек. Я должен был много подумать, прежде чем догадался, что нотные знаки помещены на той стороне бумаги, которая обращена к поющим. Хоровое пение я услышал впервые, и оно мне очень понравилось.
Вскоре после этого мы снова переехали в Суконную слободу, в две маленькие комнатки подвального этажа. Кажется, в тот же день я услышал над головою у себя церковное пение и тотчас же узнал, что над нами живет регент и сейчас у него спевка. Когда пение прекратилось и певчие разошлись, я храбро отправился наверх и там спросил человека, которого даже плохо видел от смущения, – не возьмет ли он и меня в певчие? Человек молча снял со стены скрипку и сказал мне:
– Тяни за смычком!
Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:
– Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты – выучи!
Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Все это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец остался равнодушен, но все-таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублевку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье – полтора рубля в месяц.
Регента звали Щербинин, и это был человек особенный: он носил длинные, зачесанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевался он в какой-то широкий халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на все свое благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20-е число было роковым. В Суконной, больше чем в других частях города, после 20-го люди становились жалки, несчастны и безумны, производя отчаянный кавардак с участием всех стихий и всего запаса матерщины. Жалко мне было регента, и когда я видел его дико пьяным, душа моя болела за него.
Однажды приказчики купца Черноярова, устраивая по какому-то случаю вечер в доме своего хозяина, предложили Щербинину дать им мальчиков-певцов; регент выбрал меня и еще двоих. Втроем мы стали ходить к приказчикам на спевки; там нас угощали печеньем и чаем, в который можно было класть сахара, сколько душа желала. Это было замечательно, потому что дома и даже в трактире, куда мы, мальчики, заходили между ранней и поздней обеднями, чай пить можно было только «вприкуску», а не «внакладку». А у приказчиков клади сахара в стакан хоть по пяти кусков! И сами они были ребята славные, говорили с нами ласково, угощали радушно. На вечер к ним явились какие-то важные барыни, купцы, господа. Было светло, радостно и вообще незнакомо мне хорошо. Мы спели трио, которое начиналось словами:
Мрачны ночи,
Смертных очи…
Помнится, это называлось «гимн рождеству».