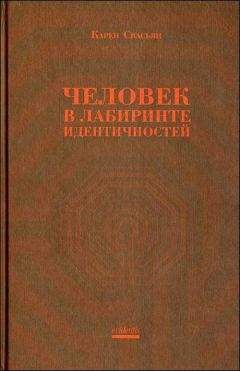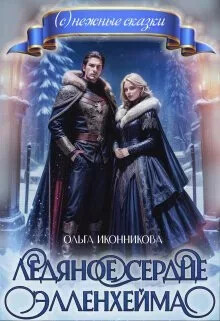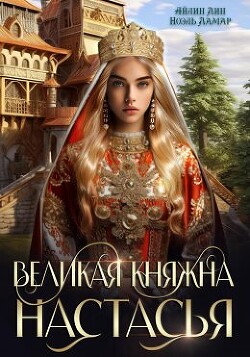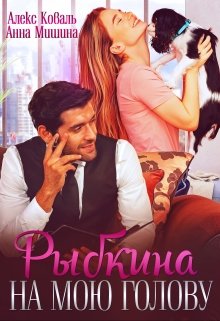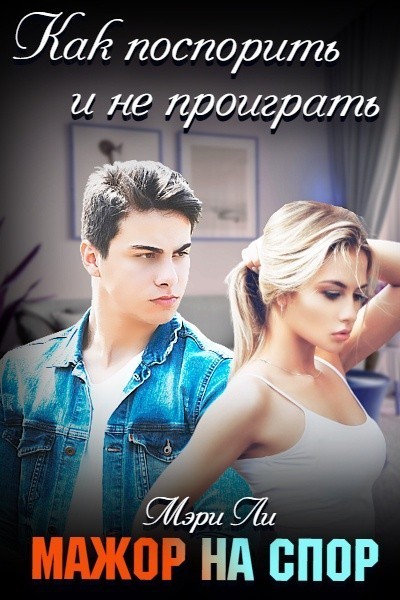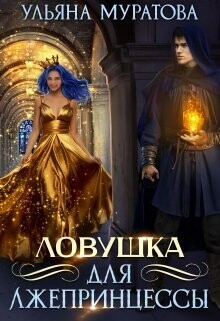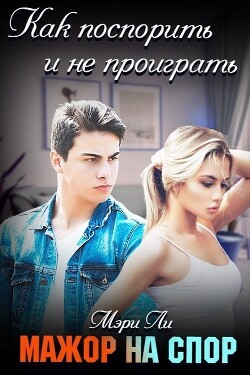Карен Свасьян - Европа. Два некролога
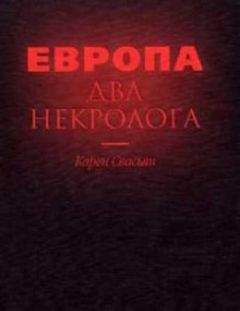
Помощь проекту
Европа. Два некролога читать книгу онлайн
Базель, 28 ноября 2002
I. К истории одной близящейся катастрофы
1. Немецкий реквием.
Нижеследующее есть попытка асимметричного и транскаузального вопроса на следующий ответ: поскольку Мировым Водительством именно на центральную Европу была возложена задача оживотворить импульс Христа в естественнонаучно возмужавшей мысли, европейская сердцевина мира стала мишенью ненависти всего прочего мира. Христианский Запад содрогнулся бы от дерзости, приведись однажды не солдату Армии спасения, а преимущественно логику засвидетельствовать свое почтение Логосу Мира. Никому, или почти никому, не кажется нелепым, что право профессионально говорить о Христе принадлежит сегодня всё еще только богослову[5], а не, скажем, физику, химику, биологу или математику.
Нелепым, напротив, выглядело бы сегодня стремление искать Христа в любой теме, области и специальности, причем не в знаке религиозного обновления, а на языке, имманентном ситуации. Что христианскому Богу на Западе выпала участь отражаться лишь в зеркале веры или, на худой конец, художественных образов и мистических видений, в то время как строгое научное мышление находилось в распоряжении иных, нехристианских, Богов, уже по одному этому можно было бы диагностировать обреченность христианства. Задание: сделать христианским мышление, научиться не только чувствовать и воздыхать по–христиански, но и по–христиански мыслить, провиденциально стоит перед немецкой душой с момента смерти Фомы Аквинского и как его последняя воля[6]. Вполне достаточно, чтобы воля эта с тех пор всеми неправдами и полуправдами бойкотировалась христианским миром. Макс Шелер приводит в своей вышедшей в 1917 году книге о германофобии реплику одного «умного француза», которого спросили о причинах столь неистребимой ненависти к немцам в мире. Ответ: «Ils travaillent trop»[7] — «Они слишком много работают». Мы читаем точнее: «Ils pensent trop» — «Они слишком много думают». Искушенный в мирских делах латинский инстинкт (вкупе с англосаксонским) сработал безошибочно, почтив, как наиболее грозную среди всех прочих опасностей мира, опасность мышления. Разумеется, не там, где мыслится академически, а там, разумеется, где мыслится по–гётевски, где, по Гёте, «само мое созерцание есть мышление, а мое мышление — созерцание»[8]. История Запада — с Тридцатилетней войны — стоит под знаком слов: Germany must perish. В каузальном подтексте: ПОТОМУ ЧТО ОНА МЫСЛИТ. Читатель, не распрощавшийся с настоящим текстом до этого места, вправе перебить автора. Читатель вправе спросить: что, собственно, значит: ПОТОМУ ЧТО ОНА МЫСЛИТ? Значит ли это, что мыслят только в Германии? — Нет, клянусь святым Шовеном, скорее уж во Франции! Hommage a la France, если в сегодняшней Германии стало нормой, обязанностью и привычкой — не мыслить, то тем расточительнее являет (являл?) себя контраст в Париже. В Париже (за вычетом философских кутюрье типа Деррида, для которых мыслить — значит говорить, а говорить — значит не мыслить) умеют еще ходить в школу к Гегелю, Гёльдерлину, Ницше, Гуссерлю, Хайдеггеру, Эрнсту Юнгеру тогда как немецкие простофили во всеуслышание стыдятся своих мыслителей или, по крайней мере, виновато отмалчиваются, видя, как ими гордятся в Париже. И если утверждается, что мышление — это немецкая доблесть par excellence, что мыслить немцам велел сам Бог, ужаснувшийся, как говорят, однажды своей убогости среди верующих в Него и решивший испытать счастье у людей мыслящих, то отсюда вовсе не следует, что немцы мыслят, а следует, скорее, что мир лезет из кожи вон и делает всё возможное, чтобы они не мыслили. Не для того в конце концов христианство на христианском Западе было загнано в барокамеру гуманитарных плаксивостей и подключено к режиму питания слабовольтной морали, чтобы однажды оно споткнулось о серьезность этих германских увальней, вбивших себе в голову взять сторону Творца мира в его непреодолимом желании явиться в могуществе своем и славе своей уже не через веру, а через познание.
Поразительно в этом немецком мышлении то, что оно ничуть не в меньшей степени обнаруживает объективность и фактичность, чем это в строго английском смысле предполагает слово experience. Немец смеет мыслить то, что искони находится в компетенции наблюдения: мир становления. Оттого он есть метафизик опыта. Но он рискует также и наблюдать то, о чем всегда решало мышление: мир бытия. Он есть тем самым эмпирик сверхчувственного. Ему неведом иной доступ к бытию, кроме как через становление. Он мыслит в непрекращающихся противоречиях, ибо его мышление не замуровано в гипсовые повязки понятий, но движется в сплошных понятийных метаморфозах. Его Бог — закоренелый гегельянец, который, однако, в пику своему исполняющему церковные обязанности Коллеге достаточно мужественен, чтобы суметь однажды осмыслить и выдержать собственный совершенный антропоморфизм. Можно, конечно, улыбнуться утонченному дурачеству Готфрида Бенна: Гераклит — первый немец, Платон — второй, оба гегельянцы, но было бы отнюдь не оптимальным решением не пойти здесь дальше одной улыбки. Ведь не улыбаемся же мы раннехристианскому топосу, согласно которому Гераклит, Сократ и Платон были христианами до Христа! С начала Нового времени старая контроверза Тертуллиана Афины или Иерусалим упраздняется в немецкой философии, где бы эта последняя ни заявляла о себе: в Гёрлице или Веймаре, в Берлине, Мюнхене, Йене или Вене, или уже всюду, где мыслится на немецкий лад.
В немецком мышлении анонимный философский Логос античности откликается на свое действительное имя. Поскольку имя это всегда оглашалось лишь на религиозном языке и для верующих, мир духа представал распавшимся на две «власти», именно: Афины и Иерусалим. В рамках римско–католического глобализма обеим крайностям надлежало быть если не примиренными, то по меньшей мере сосуществующими. Схоластическая философия, сознающая себя служанкой христианского богословия и нисколько не скрывающая при этом своей фатальной страсти к арабоязычнику Аристотелю, сдвинула проблему в тупик двойной истины, что означало: верующим христианам дозволяется и мыслить, при условии что веруют они по–иудейски, а мыслят по–гречески — без того, стало быть, чтобы доктора богословского семинара дулись на коллег с соседнего естественнонаучного факультета, и наоборот. Со сменой гегемона, когда расслабленный спиритуализм вынужден под давлением энергичного научного эксперимента отречься от трона, примирение ищется уже не в теологическом заповеднике, а в приключенческом мире естествознания, что значит: атеистическое мышление науки «дополняется» моральными отрыжками веры. Немецкое мышление — так означена отныне перспектива, в которой свершается исход из христианского пленения; исход имманентен ПОЗНАНИЮ. Тем самым, однако, палестинское событие 33 года, бывшее (1 Кор. 1:23) для Иерусалима соблазном, а для Афин безумием, высвобождается из–под ига как спиритуализма, так и материализма (оба в стиле бидер- мейер), и завещается — в посмертной воле Фомы 1274 года — будущему гётеанизму[9].
Подобно тому как мировой задачей иудейства было подготовить Логосу—Христу его физическое тело, так мировой задачей германства является сотворить ему его МЫСЛЕТЕЛО и явить его миру как ОТКРОВЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Сопротивление этой задаче и образует с тех пор тайную пружину европейской истории; можно видеть, как из десятилетия в десятилетие, а дальше уже из года в год против немецкой идеи мобилизуются и сплачиваются стада мира, в первую очередь и дисциплинированнее всех — немецкое стадо. Ибо Христос сознания внушает сегодняшнему христианскому стаду гораздо больший страх, чем Христос Иисус стаду тогдашнему. Как–никак, но удалось же тогда совместными усилиями уложить Его на прокрустово ложе душевностей и подменить Его космическое присутствие индустрией дешевой олеографии. Вопрос бьет молотом: что, собственно говоря, останется от всяческого стада, если Христос—Логос станет говорить не притчами, а на строжайшем языке мыслителя? Если в качестве острия своей давно желанной и наконец свершившейся теории познания он выставит следующий тезис: «О какой–то другой — не субъективной — человеческой истине не может быть и речи»[10]. Как бы мы ни толковали этот тезис, придется в конце концов признать, что на подобных головоломках «несчастное» сознание могло бы сполна осознать глубину и меру собственного несчастья.