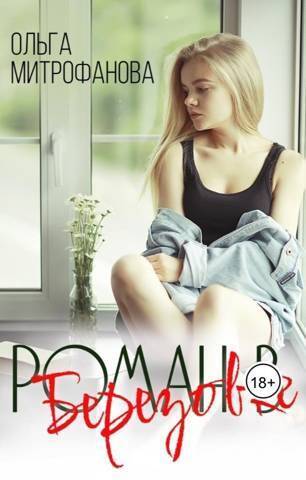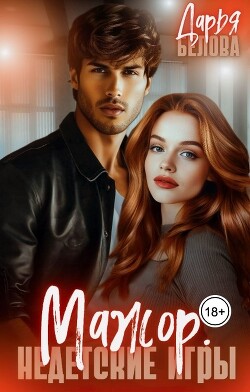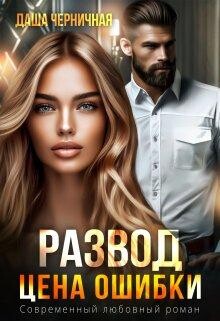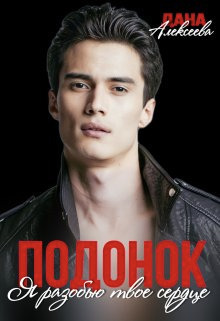Георгий Адамович - Из записной книжки. Темы

Помощь проекту
Из записной книжки. Темы читать книгу онлайн
Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни «Песнь председателя», ни «Пророк» не заменят мне стихов другого толка, грустных и ясных, как небо. Если бы нужно было назвать «лучшие» пушкинские стихи, я, пожалуй, прежде всего вспомнил бы то, что Татьяна говорит Онегину в последней сцене романа.
Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но ещё более таинственное.
* * *
Всё дело в том, где ложь и где правда. Где граница правды и начало лжи?
Не «апофеоз бескрылости», как иронизировала Цветаева, а верность крыльям верным, отвращение от крыльев бумажных.
* * *(XXI).
По поводу «Пророка».
С оговорками и поправками, при некоторой живости фантазии, можно представить себе, что «Пророка» написал бы Гоголь. Можно представить себе, что «Пророка» написал бы Достоевский, столь вдохновенно его декламировавший. Но никак нельзя себе представить, чтобы «Пророка» написал Лев Толстой, хотя кто же был «духовной жаждою томим» сильнее его?
Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт важнейший спор, и в споре этом правда полностью на стороне Толстого.Оказывается, у самого Пушкина кое-что есть такое, что недурно было бы спрыснуть толстовской серной кислотой.
* * *
Нет ни одной французской книги по теории или истории словесности, где обстоятельно не толковалось бы о понятии «sublime».[4]
Le sublime chez Racine. Le sublime chez Victor Hugo.[5]
Достойно внимания, что в русском языке вовсе нет такого слова.
ТЕМЫ (Воздушные пути. 1960. №1. с.43-50)
* * *
«Поэзия возникает из света и безнадежности».
Это не совсем хорошо сказано, чуть-чуть слишком нажата педаль. Но ничего не поделаешь: «серебряный» век, не «золотой». Надо было выразиться суше, сдержаннее, как выражались в «золотом». Надо бы на полуслове остановиться, чтобы наполнить содержанием и самое молчание. Но нашим поэтам я всё-таки сказал бы: если вы этого «света и безнадежности» не понимаете, бросьте писать стихи! Объяснять тут нечего, и в поэзии вам делать нечего.
* * *
У Толстого вовсе не самые люди живы, как ни у кого другого. Старик Верховенский в «Бесах» или удивительный в своей трагикомической картинности генерал Иволгин в «Идиоте» мало чем уступают в этом смысле самым ярким толстовским персонажам. Но у Достоевского, – как у Диккенса, с которым у него в приёмах изобразительности столько общего, – каждый человек существует сам по себе, без связи с остальными. Каждого можно беспрепятственно перенести в другой роман, даже другого автора. У Толстого единственны не люди, а единственно то, что между людьми: атмосфера, воздух, которым они дышат, невидимые нити от одного к другому, общая принадлежность к единому миру.
Есть в кулинарии выражение «lier» [6]. Например, lier un potage: сделать суп слитным, цельным. Вот в искусстве lier у Толстого действительно нет соперников. Шарль дю Бос правильно сказал: Толстой и Шекспир.
* * *
Давно известно, что твердость, тяжесть и точность латыни нашему языку недоступна. И не только латыни: недоступна нам и французская отчётливость. Когда-то в Петербурге возникла коллективная попытка перевести Ларошфуко, но ничего не вышло. Ослепительная галльская сжатость теряла в русском переводе и блеск и остроту. Наш язык богаче в оттенках, вкрадчивее, но зато и уступчивее. Из дерева хорошего копья не сделаешь, нужна сталь.
Если есть что-нибудь в русской литературе, что дает представление о латыни – и даже о греках, – то один только Толстой. «И после глупой жизни придёт глупая смерть». Правда, это латынь безотчетная, но именно полное отсутствие подражания и стилизации приводит к родству. Такая фраза по духу ближе к латыни, чем Карамзин или даже Пушкин. У Пушкина слог чище, у Пушкина больше внешнего словесного мастерства, больше заботы о слове, но у него всё-таки нет толстовской силы. Мятежники торжествовали: это – «под латынь», умышленно, а Толстой устремляется в противоположную сторону, и, ни о каких образцах не думая, будто описав круг, возвращается в нужную точку.
Стиль и слово. Пример писателя, лингвистически многоопытного, но стилистически беспомощного, – Ремизов. Не случайно он в своих «Подстриженных глазках» пролепетал что-то о «словесно бездарном Толстом».
Вспоминаю, впрочем, и другое. Как-то я увидел у него на столе книжку журнала, испещренную заметками на полях, – и с разрешения хозяина «полюбопытствовал», взял посмотреть. В одной из статей была цитата из Пушкина: «Бессмертья, может быть, залог». На полях значилось: «Может быть – лишнее. Можно бы выбросить».
«Бессмертья, может быть, залог»! «Может быть», на котором всё держится, «может быть» – вызов, надежда, заклинание, прорыв в неизвестность, почти уже победный клич, волшебное сверкающее над всей русской поэзией «может быть» – лишнее!
* * *
Вторжение разночинцев в нашу литературу совпадает с порчей языка, или, вернее, – привело к порче. Белинский, духовный отец разночинцев, писал, в сущности, «никак», то есть серо, бескостно, и эту свою бескостно-серую манеру передал Чернышевскому, Добролюбову и другим. Из людей того же идейного лагеря сопротивление у Герцена, читать которого – истинное наслаждение. Отчасти у Писарева (до крепости), который должен бы ещё дождаться справедливой оценки, сколько бы ни наболтал он мальчишеского вздора.
Но манера Белинского привилась. Благодаря ей легко стало писать без помарок, страниц десять в полчаса, «блистательно», как тот же Чернышевский сказал о Добролюбове, имея, очевидно, о «блистательности» представление совсем особое. К концу века мы докатились до Скабичевского, а от него по прямой дорожке к языку советских газет. Однако всё-таки по былым цветочкам нельзя было ждать теперешних ягодок!
Иногда, читая московские газеты и журналы, думаешь: ну хорошо, несравненная мудрость Ильича, необыкновенно глубокие указания Никиты Сергеевича по вопросам творчества и все прочее, – пускай, пускай! Но почему всё это изложено таким сверхдубовым, сверхканцелярским, обезличенным языком? И в чем тут дело: в российской подспудной, исконной тупости, прорвавшееся во всю ширь наружу и мстящей за годы и годы унижения? или в том, что данный общественный строй обусловливает соответствующий литературный стиль? То есть виновата ли наша матушка-Русь православная и охотнорядская или виноват коммунизм, который всюду привёл бы к тому же?
Второе предположение вероятнее. И, если вдуматься, страшнее.
* * *
«Проблема» – не совсем то же самое, конечно, что «вопрос». Но в девяти случаях из десяти можно без ущерба вместо «проблемы» сказать «вопрос», даже в десятом, неудачно случае «вопрос» всё-таки лучше.
Боязнь иностранных слов тут ни причём. Есть множество иностранных слов вполне приемлемых, равноправных со словами русскими. Такие, как «проблема», отталкивают не стилистически, а психологически, а отмыть их от всего, что к ним приросло, трудно…
«Пастернак поставил проблему Бога». «Проблема смерти в новейшем американском романе»…
Психологически что за этим? Эстрада, роговые очки, мягко поблескивающие, высококультурные глаза, приятные жесты, скрыто-самодовольная улыбка. Фрейд? Ну, как же, разумеется, Фрейд, как же теперь без Фрейда! Пикассо? Я давно уже указывал, что Пикассо… Необходимо заметить, что и влияние Эйнштейна…
Словом, «сублимированный», многоликий, всепонимающий, всеодобряющий, бессмертный Луначарский. «Проблемы», победоносно разрешаемые на каждом шагу. Оттого и даёшь себе слово обходиться без «проблем».
* * *
От поэзии условно-поэтической, от «поэзии» в кавычках до завуалированной пошлости – рукой подать.
Пушкин, как метод, как отношение к творчеству, как антипоза, выше и чище Блока. Не сравниваю таланты. Но Пушкин сгорел бы от стыда, если бы написал о «черной розе в бокале» и о какой-то дуре, розу получившей и полной «презрения юного». Другие времена, другой век? Да, может быть. Но идти по течению века вовсе не обязательно. Блок на своих редких вершинах – прекрасен, навсегда, без допустимости какого-либо «пересмотра», но Блок средний, включая, конечно, и «Двенадцать», – тягостен.
Меня всё чаще корят Цветаевой. «Замечательный поэт, а вы упираетесь или просто не понимаете!» Недавно я – как бы в своё оправдание, в своё «понимание» – узнал, что самым любимым её русским стихотворением было фетовское «Рояль был весь раскрыт»… Человек вест в том, что он любит, и не всё ли мне равно, при таком выборе, что Цветаева была действительно очень даровита!
* * *
Кстати, по поводу «Двенадцати».
Когда поэма только что появилась, Сергей Бобров, умный человек, где-то написал: «горький пустячок». Я до сих пор помню своё тогдашнее возмущение. А теперь думаю: как это было верно!