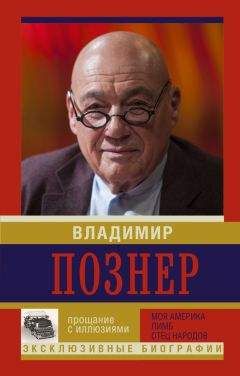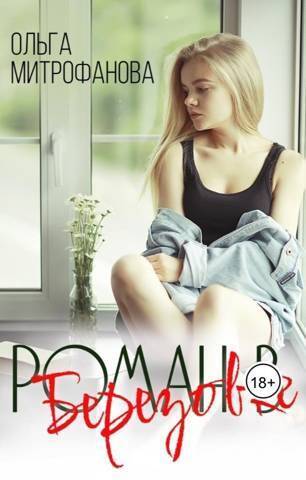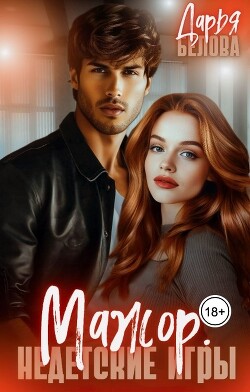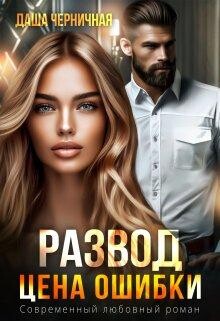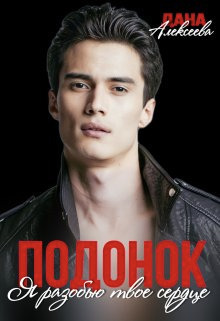Георгий Адамович - Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов

Помощь проекту
Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов читать книгу онлайн
Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально, и не решит, что если у нас есть руки и ноги, то, значит, должны они быть и у Бога. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем значении. В сущности, это кантовский «нравственный закон внутри нас», великое, второе, рядом со «звездным небом над нами», мировое чудо, — хотя едва ли в одной нравственности тут дело. Или понятие нравственности должно быть расширено до включения в него чувства эстетического? Очень возможно, что так, и, вероятно, именно этим и объясняется, что всякие демонизмы, чародейства и соблазны рано или поздно отталкивают, как пустые, постылые выдумки. Ложь ведь повсюду ложь, во всех областях, и должна где-нибудь существовать ложь единая, объединительная, Ложь с большой буквы, как существует же где-нибудь — где? — единая Истина. И в нас это отражено.
Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого после того, как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, — а если, случается, и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, — все это и есть «образ и подобие» Для верующих объяснение сравнительно просто: «То, чего я хочу, — но именно по-настоящему хочу, всем сердцем хочу, и никак не для самого себя, не эгоистически хочу, того хочет Бог. Это Он вложил в меня подобную себе душу, Он наделил каждого из людей частицей своих стремлений, своих оценок. У меня с Ним одинаковая сущность, и разница лишь в масштабах, да еще в том, что Он, вероятно, знает, почему назвал добро добром, а зло злом, я же бреду на ощупь, как слепой, не видя ни направления, ни конечных целей» Так скажут верующие. Ну а у других, у тех, кто в сотрудничестве своем с Провидением не вполне уверен, остается чувство, что коренные их побуждения чему-то все-таки отвечают вовне и с чем-то вовне согласованы. Даже если и не стекаются эти побуждения по радиусам бесчисленных отдельных сознаний в единый центр, то радиусы не совсем разнородны, и это исключает случайность.
Я знаю, конечно, что, едва начав говорить об этом, отваживаюсь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. Да и при чем тут поэзия? — пожалуй, скажут мне.
Ответить хотелось бы, что не только «при чем-то», а «при всем». От «образа и подобия» — даже если это не догмат, а только предположение, рабочая гипотеза — к поэзии прямая нить. Но не к тому, конечно, что большей частью за поэзию выдается и ею считается, а скорей к платоническому представлению и мечте о ней. Вот тут-то и запятая, если еще раз вспомнить Карамазова: тут-то и обнаруживается невозможность ее! Надо, однако, немедленно добавить, пояснить: не невозможность писания хороших, прекрасных, замечательных стихотворений, — что в редких случаях некоторым людям еще удается, — а невозможность продолжения, невозможность метода, школы и развития.
Поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Иначе действительно, как утверждают иные почтенные и по-своему вовсе не глупые люди, смешно было бы выстукивать размеры и, покусывая карандаш, искать, с чем можно было бы срифмовать, например, нежность, кроме непристойно истрепавшейся, готовой к любым услугам безнадежности. Самая условность и ограниченность поэтических средств обязывает к тому, чтобы лег на целое отблеск безграничности и безусловности.
«Лучшие слова в лучшем порядке». Кольриджевскому определению поэзии у нас повезло, с легкой руки Гумилева, которому формула эта чрезвычайно нравилась. Не помню, не знаю, скажу откровенно, какой смысл вложил в нее сам Кольридж, но едва ли тот, который вкладывал Гумилев, а за ним и другие молодые авторы: едва ли смысл чисто формальный, в духе Буало, советовавшего, как известно, «полировать» стих без устали. К лучшему «порядку» это, пожалуй, и могло бы отнестись, — но что значит «лучшие слова»? Что могут они значить, кроме того, что в поэзии недопустимы: обман, притворство, поза, кокетство, фокусничанье, комедиантство, самолюбование, развязность, баловство, ходули… о, список того, что насмерть враждебно поэзии, мог бы занять несколько страниц! Недопустимо то, что наверное не от «образа и подобия» и за что «образ и подобие» не может принять ответственности. Наедине с собой человеку не трудно в себя всмотреться, и, конечно, поэт всегда знает, нашел ли он действительно «лучшие слова» — то есть лучшие для него, в данном его состоянии, вовсе не безотносительно «хорошие», «красивые», «поэтические», — или увлекся соображениями посторонними, вплоть до предвкушения читательского восторга от какого-нибудь идиотски-новаторского литературного выверта.
Но необходимо предостережение: может показаться, что требование «лучших слов» есть нечто вроде совета писать стихи по вячеславу-ивановскому образцу, то есть стихи торжественные, велеречивые, парящие в заоблачных высях. Ни в коем случае! И не думаю, чтобы Пушкин, когда указывал на «служение, алтарь и жертвоприношение» как на сущность творчества, имел что-либо подобное в виду. Нет, вся его поэзия этому противоречит. Однако о жертве упомянул он все-таки не напрасно, и образ этот, понятый как нужно, точен и верен: в поэзии человек возвращает на «алтарь» лучшее, что он получил, приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя — ибо слишком уж бессмысленно! — бросив в церковный ящик пятачок, поставить перед иконой свечу в рубль… Вот ведь в чем дело. По Вячеславу Иванову, только рублевые свечи и допустимы, но он забыл, что у людей в кармане всего только медяки. Да и те наперечет.
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Да, может быть. Но это как-то слишком расплывчато сказано, и «лучшие слова в лучшем порядке» в самой сухости своей предпочтительнее. А кроме того, — замечу мимоходом, — для меня лично эти «святые мечты» навсегда отравлены воспоминанием о статейке, которую благодушно-благочестивый автор, прелестный, хотя и несколько анемичный поэт, счел возможным написать о смертной казни: мерзость в нашей классической литературе беспримерная.
Движение, развитие, а тем более «новаторство» в поэзии сопряжено с некоторой долей суетности и с отклонением от всего того, что можно бы назвать поэтической идеей в платоновском смысле. Движение — как это на первый взгляд ни удивительно — рассеивает мысли, разжижает чувство, притом сразу, с первых же шагов, и в конце концов приводит к отступничеству.
Что же поэту делать? Топтаться на месте? Удовольствоваться стилизацией под классиков? Двенадцать гладеньких строк, четырехстопный ямб, любовь и кровь? Нет, это не решение, не выход. Выход найти трудно. В прошлом движение было, иначе нам теперь не на чем было бы и «топтаться». Исторически понятие движения, развития неопровержимо, и законность его как будто — вне сомнений. Но, очевидно, не все времена в этом отношении одинаковы, и сейчас приходится перефразировать знаменитое леонтьевское изречение: «Надо поэзию подморозить, чтобы она не сгнила».
Это, пожалуй, наше открытие, и обязаны мы им не особой нашей прозорливости, а только тому, что оказались волею судеб в особом, небывалом положении, да еще в эпоху, когда новизна во что бы то ни стало сделалась чуть ли не лозунгом иных влиятельнейших художников. Нашим историческим уделом было созерцание в чистейшем, беспримесном виде, поскольку для деятельности, при не очень-то большой природной склонности к ней, не было поля, не было арены, — и, оцепенев, остановившись исторически и общественно, мы кое-что разглядели такое, что от других ускользает. Гордиться этим было бы глупо. Радоваться тоже нет оснований. А меньше всего было бы оснований возводить в какой-то общеобязательный и постоянный принцип то, что открылось в порядке исключительном, как бы с глазу на глаз с судьбой, «на духу», не для разгласки. «Да здравствует победное шествие искусства к новым светлым горизонтам, да здравствует всяческое "вперед"»! — склонны воскликнуть люди в положении исторически нормальном, пусть и находят они для своих стремлений выражения более изысканные, чем те, которые в насмешку привел я. Ну что же, согласимся: да здравствует! Почему бы в самом деле искусству и не здравствовать? В наши дни восхваляется непрерывное обновление, непрерывное изменение манеры, и освящено это еще Бодлером, призывавшим «нырять в глубь неизвестности в поисках нового»: плохой, внутренне плоский стих великого поэта. Итак, да здравствует! Но найдется пять-шесть человек, которые, наверно, скажут: этого своего неожиданного открытия не променяем мы ни на что, и никто никакими доводами, никакими ссылками ни на какие авторитеты не убедит нас, что оно — досадное следствие «эмигрантщины», результат утраты живых связей с действительностью или попросту бессильно-снобическое брюзжание. Да, невольная историческая остановка, факт выхода из затянувшегося пребывания на сцене, откуда убрано было все бутафорское, роль свою сыграли. Но стоило, стоило, стоило растерять все, что удерживается в обычной исторической обстановке, чтобы в образовавшейся пустоте, будто в далекой узкой щели, блеснул свет… Ибо утверждение неосуществимости поэзии есть в конце концов великое ее прославление, поклон до земли, объяснение в вечной любви, пусть и в любви к призраку. Но призрак так хорош, что, уловив его черты, ни на что другое не захочешь смотреть. «Он имел одно видение»…