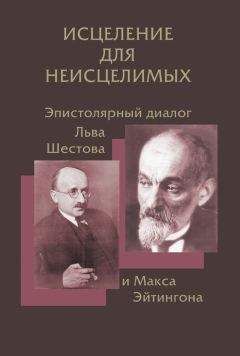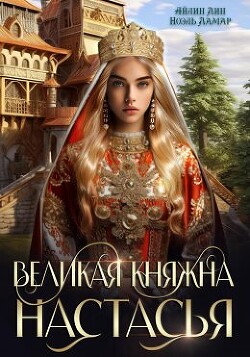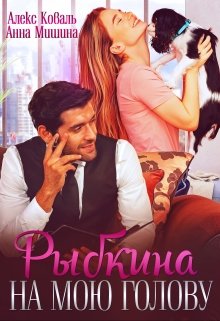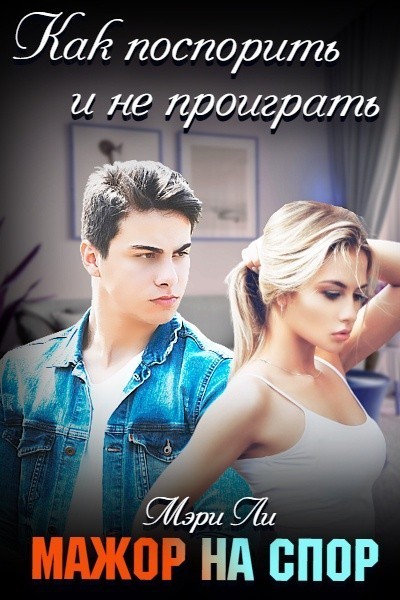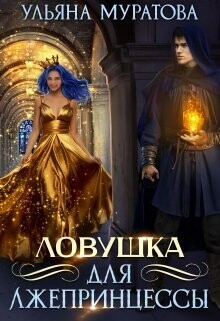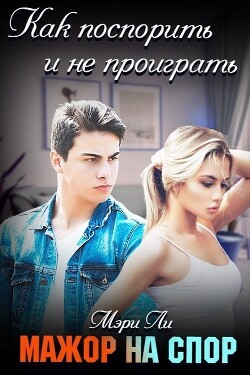Виктор Ерофеев - "ОСТАЕТСЯ ОДНО: ПРОИЗВОЛ"

Помощь проекту
"ОСТАЕТСЯ ОДНО: ПРОИЗВОЛ" читать книгу онлайн
3. "ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ КОЛОТИТЬСЯ ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ..."
Шестов не "успел" опубликовать свою статью о Пушкине. Его философская конструкция рухнула внезапно и оглушительно. Предчувствие катастрофы, особенно в ретроспекции, в шестовском "Пушкине" угадывается по звучанию голоса. Он звонок от напряжения, порожденного внутренними сомнениями, которые автор пытается не выдать. Но Шестов все-таки выдает себя. Когда он пишет, что стихи Пушкина "призывают к мужеству, к борьбе, к надежде -- ив тот миг, когда люди обыкновенно теряют всякую надежду и в бессильном отчаянии опускают руки" (11, 339), мы понимаем, что этот критический миг переживает сам Шестов, отчаянно цепляющийся за "надежду", чтобы не сорваться, не угодить в пасть "прожорливому чудовищу".
Но он все-таки сорвался и угодил.
Слишком шаткой была его конструкция, основанная на равновесии "ужасов" жизни и их разумной необходимости, которая постигалась лишь на высотах человеческого гения (Шекспир, Пушкин). Факты, почерпнутые из истории и элементарного жизненного опыта, бомбардировали конструкцию с такой частотой и энергичностью, что она не могла устоять.
Литература способна породить оптический обман. Она повышает требовательность человека к жизни, но эти возросшие требования жизнь зачастую не в состоянии удовлетворить. Литература упорядочивает жизнь в соответствии со своими имманентными законами, которые можно ошибочно воспринять как законы самой жизни. Шестов стал жертвой такого обмана. "Воспитательная" трагедия, в развязке которой зритель проливает слезы очищения и проникается сознанием ее необходимости для духовного роста героя,-- это лишь одна из многочисленных форм художественной организации жизненного материала, не имеющая никакого права претендовать на универсальность и реально-жизненное значение.
Вера в добродетельный смысл трагедии, какой бы соблазнительной она ни была, открывая перспективу высоконравственной деятельности на благо человечеству, не могла устоять перед напором "ужасов". "Ужасов" оказалось так много, что найти каждому разумное объяснение и применение для духовного роста было немыслимо. Как ни старался Шестов, он не мог с ними справиться. Надо было либо отмахнуться от "ужасов", закрыть на них глаза, либо приписать им "воспитательное" значение уже не в рамках индивидуального существования, где они не могли его иметь (какое "воспитательное" значение имела для Офелии ее трагическая история?), но в рамках общечеловеческого развития. Ни то ни другое Шестова не удовлетворяло. Он не хотел ни обманывать себя, ни рассматривать человека в качестве "пушечного мяса прогресса". Он начинает свою вторую книгу "Добро в учении гр. Толстого и Фр. Нитше" (1900) отрывком из известного письма Белинского, разрывающего с гегельянством: "Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития -- я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа 11-го и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии".
Шестов подписывается под словами Белинского, но вкладывает в них особый смысл. В дореволюционной критике существовало мнение, что первая книга Шестова характеризовала собой для философа своего рода эпоху "разумной действительности" и что его перелом связан с отказом от этой формулы. В сущности, это означает, что Шестов пошел за Белинским. Однако это не так. Шестов не отказался от сакраментальной формулы -- он ее решительно переосмыслил. Гуманистическая реакция Белинского на философию Гегеля вела к раскрепощению социального действия, которое, в свою очередь, должно было привести к социальному "спасению". В своей основе также определившаяся болью за человека, реакция Шестова была направлена на освобождение индивидуального действия во имя личностного спасения. Однако в процессе этого освобождения началась агония гуманистического сознания. Как это произошло?
Из слов "неистового Виссариона" Шестов вычленил прежде всего остро осознанное им самим признание беспомощности добра перед силой зла в жизни индивида ив мировой истории, беспомощности, которая толкает броситься "вниз головой". Шестова, как и Белинского, не удовлетворяет рассмотрение человека в качестве служебной единицы. Однако Шестов требует предоставить самостоятельное значение не только человеку, но и злу как необходимому фактору спасения. Отказываясь отныне видеть в зле тайного сообщника добра, как это было в "Анти-Брандесе", он призывает не спешить бороться со злом, на чем настаивает гуманизм, а понять его смысл и. значение для разгадки тайны жизни, без чего не может быть спасения "тому единичному, случайному, незаметному, но живому человеку, которого до сих пор философия так старательно и методически выталкивала" (7, 24).
Какое же переосмысление получает "обычная формула идеализма"? Шестов пишет: "Действительность разумна" придется истолковывать не так, что ее следует сдабривать и обряжать до тех пор, пока "разум" не найдет ее устроенной по своим законам, а так, что "разуму" придется принять от нее, взамен старых a priori, новые a posteriori. Понимаете ли вы, какой отсюда вывод? Может быть, что если в этой действительности не найдется гуманности... то разуму совсем придется отказаться от своих великодушных принципов и отыскать себе иной закон..." (2, 16). Многоточие приобретает зловещий характер, в недосказанности ощущается страх самого философа за последствия высказанной им мысли. Но ответственность за нее он несет не один. Не нужно обладать особенной проницательностью, чтобы заметить, что за Шестовым выросла и стрит фигура Ницше.
Призрак Ницше возникает уже в первой книге Шестова, эпиграф к которой заимствуется из "Заратустры", однако смысл этого призрака еще неясен автору, и, сделав в его сторону несколько неопределенных реверансов, Шестов строго судит попытки Брандеса найти общие мировоззренческие позиции у Шекспира и Ницше, а особенно приписать английскому гению "антидемократические тенденции" немецкого мыслителя.
По-настоящему Ницше открылся Шестову тогда, когда тот стал изнемогать в своем донкихотском сражении с "ужасами", пытаясь подчинить их власти разума и добра. Углубившись в творчество автора "Заратустры", Шестов определил эволюцию Ницше, особенно интересуясь переходом философа от гуманистической настроенности книги "Человеческое, слишком человеческое" к "имморализму" последующих произведений. Существенную роль Шестов отвел болезни Ницше; опираясь на. его высказывание: "Я ей (то есть болезни.-- В. Е.) обязан всей моей философией... Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, которая не торопится, -- только эта боль заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины, и все доверчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, посредственное -- в чем, быть может, прежде мы сами полагали свою человечность -- отбросить от себя" (2, 107).
Выводы, сделанные Ницше из путешествия в "последние глубины", были восприняты Шестовым как откровение. Они освобождали его от непосильной тяжбы с "ужасами". Теперь Шестов твердо знал, что "в жизни есть зло -- стало быть, нельзя его отрицать, проклинать; отрицания и проклятия бессильны. Самое страстное негодующее слово не может и мухи убить" (2, 171). Шестовским девизом становится отныне аmоr fati (любовь к року -- термин Ницше), и "философия", по Шестову, отличается от "проповеди" тем, что руководствуется этим девизом.
Смысл "проповеди" Шестов объясняет потребностью писателя обрести "прочную почву" для осмысления и изменения действительности. Но столь ли прочна эта почва? Шестов сомневается в эффективности "проповеди". Останавливаясь на религиозных трактатах позднего Толстого, он оценивает их как высокие образцы "душеспасительной литературы", которые тем не менее не способны ничего изменить. "...Если европейские народы, столько столетий подряд признававшие Библию своей священной книгой, не исполнили ее заветов, то как гр. Толстой мог серьезно надеяться, что его слово сделает больше, чем слово его учителей!" (2, 61) -- восклицает Шестов. Неэффективность "проповеди", по его мнению, подчас остро ощущается самим "проповедником", но он старательно скрывает свои сомнения, в результате чего становится "подобен раненой тигрице, прибежавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны" (2, 17). Такой "тигрицей" пытается изобразить Шестов Белинского. Он признает необходимость "проповеди" в нестерпимой социальной ситуации, которая существовала, в частности, в России во время крепостного права, когда стране "нужен был публицист, солдат" и когда сокрытие "раны" было не лицемерием, но героизмом. Однако тактика Белинского стала, как уверяет Шестов, "неуместной": "Теперь молчать о том, о чем молчал он, было бы не подвигом, а преступлением" (2, 17). На это Шестову можно было возразить, что общественное положение в России в начале XX века требовало не менее безотлагательного изменения, нежели в эпоху крепостного рабства. Но Шестова не смущали такого рода возражения. В нем интенсивно развивался социальный индифферентизм, основанный на убеждении, что "трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства" (3, 240).