Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина
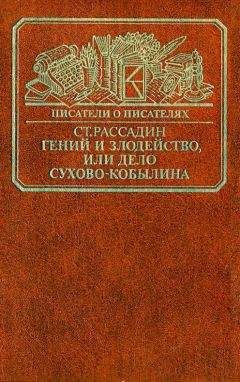
Помощь проекту
Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина читать книгу онлайн
Умно пишет Амфитеатров. И сочувственно по отношению к писателю, чья беда, а не вина в том, что он не был допущен в его время к его публике. Настолько сочувственно и настолько умно, что даже не очень хочется возражать спустя восемьдесят лет: мол, теперь у нас — наоборот, только режиссерское чудо способно заставить зрителя расхохотаться на спектакле «Ревизора» или другой хрестоматийной комедии, и, кстати сказать, не вышеупомянутая ли традиция укатала их до такой степени, что они превратились на театре в памятники самим себе? А у торгового люда — в более поздние да, подозреваю, и в амфитеатровские времена — никто вроде бы не отменял повинность перед предержащими власть. Шпажная — да, вот она отменилась, однако лишь потому, что шпаги вышли из употребления.
Но что переменят возражения по частностям в общем безрадостном Приговоре?
«Если автор сделался комиком в двадцать, тридцать, сорок лет, он в состоянии остаться приятным для публики хоть до восьмидесятого года. Но восьмидесятилетний дебютант, как бы он ни был талантлив, не может вызвать в зрителе иных чувств, кроме недоумения и некоторого конфуза:
Это призрак,
Старосветский страшный призрак!
Комедия Сухово-Кобылина — именно комический дебютант огромного таланта, но восьмидесятилетний, именно старосветский страшный призрак, смеющийся смехом острым, но уже беспредметным по складу и понятиям нового века. А в старый — кому охота делать, ради дряхлого Тарелкина, исторические экскурсы и справки?»
Большая это сила — увлеченное писательское воображение. Чувство конфуза… Анахронизм… Старосветский призрак — и не только старосветский, но страшный, как оно, впрочем, призраку и положено. «Оборотень, вурдалак, упырь и мцырь!!» — это, правда, уже не из критической прозы Амфитеатрова, это возбужденная фантазия Расплюева из той же «Смерти Тарелкина», — но, кажется, еще чуть-чуть и дошло бы до этого. Не дай никому бог дожить до часа, когда тебя станут воспринимать именно так — и, что обиднее всего, кто станет? Не злопыхатели, хулой которых можно гордиться, не желтая братия бумагомарак, писанину коих должно презреть, но люди, охотно и уважительно отдающие дань огромному — не меньше! — таланту. Большому — не ниже! — писателю. И искренне сочувствующие бедственной судьбе пьес, будто бы навсегда уничтоженных, начисто стертых с лица земли измором цензоров.
В этом сочувственно приглушенном хоре — так понижают голос на похоронах и на поминках, покуда не выпили, — незаконной и почти одинокой нотой прозвучали тогда слова Петра Гнедича, успешливого драматурга, историка искусства, а на сей раз и проницательного критика. Он, энтузиаст-застрельщик, проталкивавший третью пьесу Сухово-Кобылина на суворинскую сцену, яростно утверждал вопреки всем или по крайней мере многим и многим: только-де, люди, страдающие прирожденной близорукостью, могут не различить, что гениальная «Смерть Тарелкина» выше «Свадьбы Кречинского». Но и его слова о сатирах Сухово-Кобылина: «Это пьесы будущего» — звучали не столько обнадеживающим пророчеством, сколько горьким признанием их сегодняшней — и катастрофической — непонятости.
Большинство же оценщиков продолжало сожалеть о писателе, бесповоротно канувшем в прошлое, и даже о падении таланта, которому некогда, «в свое время», в «отжитое время», ведь удавалось же, черт побери, рождать нечто совсем недурное!
«Поскольку эта комедия, — речь, понятно, шла все о той же злосчастной «Смерти Тарелкина», — является сатирою на порядки своего времени, она может вызывать, при своих художественных недостатках, только ужас, смешанный с отвращением. Комические же эффекты, задуманные автором, имеют чисто балаганный характер. Остроты — плоски и пошлы.
Язык, превосходный язык Сухово-Кобылина, стал здесь серым и банальным. Ни в чем никакого проблеска былого дарования, так что, читая эту комедию-шутку, невольно задаешься вопросом: да неужели же возможно такое отсутствие самокритики, такое падение ума и воображения у человека, который показал раньше несомненную даровитость?» (Любовь Гуревич).
Простодушная публика, александринская и суворинская, всего лишь не подозревала, что автор давно состарившейся новинки еще ходит по земле. Изощренная критика шла, кажется, дальше, полагая, что лучше бы ему и не ходить, не существовать, — разумеется, в смысле литературного бытия или, вернее, небытия. Чем напоминать о себе, о создателе славного Кречинского, этаким беспомощно-жалким образом, достойнее бы уж вовсе не напоминать. Не быть…
Так заканчивал свою очень долгую жизнь писатель Александр Васильевич Сухово-Кобылин.
Он родился в год, когда Пушкину исполнилось всего восемнадцать, то есть тот еще не стал, не был Пушкиным, может быть, успев всего лишь наметить контур себя будущего, только намекнуть на огромность и обширность понятия, которое мы потом обозначим его именем. А умер Сухово-Кобылин, когда Чехов не только стал Чеховым, но и жить ему оставалось год. И в почетные академики Императорской Академии наук Александра Васильевича избрали — и то насилу — одновременно с молодым, но уже шумно знаменитым Горьким. (Последнего, как известно, избрав, не утвердили, что шуму и славе отнюдь не воспрепятствовало.)
Жизнь, кажущаяся неправдоподобно длинной — конечно, за счет не только собственной продолжительности и даже драматической насыщенности, но и того, что дала за эти годы отечественная словесность. И тех, кто жил рядом с Сухово-Кобылиным, кто был — ну, скажем, всего лишь строго на десять лет старше или моложе его, а это ни много ни мало Гоголь, Белинский, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин…
Если б я не поставил себе преграды, оговорившись: «строго», к ним добавился бы еще и Лев Толстой, идущий следом с опозданием на год.
Но удивительно-то не это. В конце концов, как верно было замечено нашим современным прозаиком, чуть не все великие писатели девятнадцатого века, составившие славу русской литературы, могли бы оказаться детьми одной-единственной матери, ибо успели явиться на свет в отпущенный природой промежуток, когда женщина уже получает и еще не утрачивает способности рожать. Сухово-Кобылин был бы в этом семействе не первенцем и не поскребышем, заняв место в середке.
Или нет. В сторонке. Как оно и вышло — без всякого сослагательного «бы».
Удивляться приходится не счастливой густоте явления в свет великих творцов литературы, а тому, что в этой семье Александр Васильевич, будучи родным, плоть от плота, сыном, играл как бы роль пасынка. В этом шумящем лесу, чья разнородность, смешанность и образует его неповторимую целостность, казался отдельным, одиноким деревом, к лесу словно бы и не принадлежавшим. О нем трудно говорить, употребляя соединительный союз «и»: «Сухово-Кобылин и…», — даже если подразумевать контрастность и противостояние, что мы и делаем, например, поминая рядом Толстого и Достоевского.
Может быть, Гоголь и Сухово-Кобылин? Но и это звучит не чересчур убедительно, хотя именно Гоголя он безоговорочно обожал, вообще же являя в литературном сообществе отменно неуживчивый нрав. Допустим, Островского чуть не презирал, впрочем, заметно ревнуя к успеху этого «грубейшего варвара», да и о Толстом, которого ценил высоко, вполне мог отозваться так (единожды, в первый и последний раз сохраним для сугубой выразительности его причудливую рукописную орфографию, — он и здесь умудрялся быть наособицу): «…во истинно глупая и противу нравственная Пьесса Толстова Власть Тьмы».
Но возможно ли сказать обо всем этом с более мрачной определенностью, чем сказал он сам, предваряя презрительным предисловием драму «Дело»?
«Об литературной так называемой расценке этой Драмы я, разумеется, и не думаю; а если какой-нибудь Добросовестный из цеха Критиков и приступил бы к ней с своим казенным аршином и клеймеными весами, то едва ли такой оффициал Ведомства Литературы и журнальных Дел может составить себе понятие о том равнодушии, с которым я посмотрю на его суд…»
И еще:
«…Я не говорю о классе литераторов, который так же мне чужд, как и остальные четырнадцать…»
Оценим рассчитанную убийственность отзыва. «Ведомство Литературы», «класс литераторов» — они самочинно включены этим надменным одиночкой в стародавнюю табель о рангах, дополнительным, что ли, пятнадцатым классом; они восприняты служилым, чиновничьим сословием, столь же подчиненным начальству, как и прочие, и даже свои профессиональные орудия получившим из начальственных рук: «казенный аршин и клейменые весы»; они втиснуты куда-то среди коллежских асессоров и титулярных советников.
И такое одинокое самоощущение пришло не в итоге тяжко доставшейся жизни, литературной и частной. Даже не близко к середине ее, когда сочинялось «Дело». Вот доверенное дневнику страдание автора пока еще первой, единственной комедии, только что увидевшей сцену:


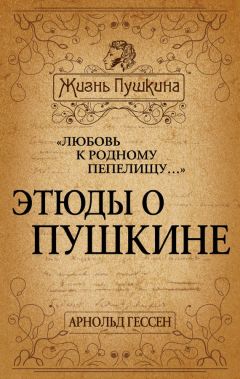
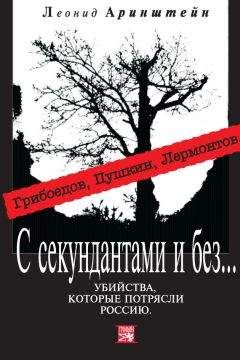







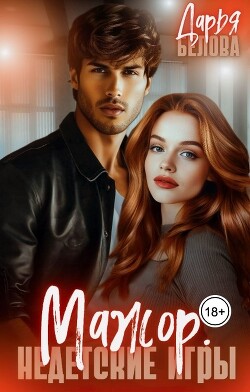


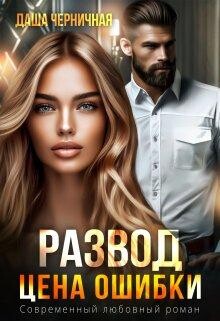




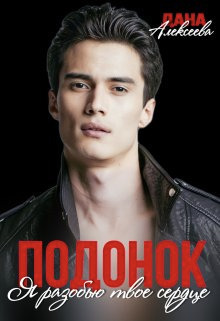



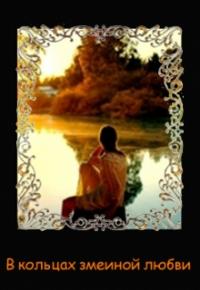

![Судьба, возможно, ты ошиблась [СИ] - Аграфена](/uploads/posts/books/327423/327423.jpg)