Анри Сен-Симон - Мемуары. Избранные главы. Книга 2
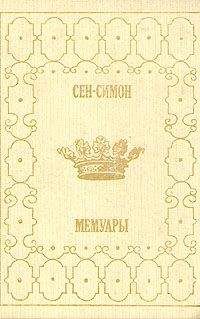
Помощь проекту
Мемуары. Избранные главы. Книга 2 читать книгу онлайн
Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве.
Избранные главы. Книга 2
23. 1712. Странным образом потерянная табакерка. Характер дофина и хвала ему
В пятницу 5 февраля герцог де Ноайль подарил дофине очень красивую табакерку, полную превосходного испанского табака; дофина угостилась и похвалила табак. Было это поздним утром. Войдя к себе в кабинет, куда никто, кроме нее, не входил, она положила табакерку на стол и оставила там. К вечеру у дофины начался озноб. Она легла в постель и не могла подняться даже для того, чтобы пойти после ужина в кабинет к королю. В субботу, 6-го, прострадав всю ночь от лихорадки, дофина тем не менее встала в обычное время и провела день по заведенному порядку; но вечером ее вновь залихорадило. Лихорадка, правда не слишком сильная, продержалась всю ночь, а в воскресенье, 7-го, несколько улеглась; однако часов в шесть вечера у дофины внезапно начались очень сильные боли чуть ниже виска; больное место было размером не больше монетки в шесть су, но боль была так мучительна, что дофина передала королю, пришедшему ее проведать, что просит его не входить. Невыносимая боль не прекращалась до понедельника; облегчение принес только табак, курительный и жевательный, к коему подмешан был опиум, да два кровопускания из руки. Едва боль немного успокоилась, как поднялась лихорадка сильнее прежнего. Дофина сказала, что не страдала так и при родах. Столь жестокая хворь вызвала среди дам пересуды о табакерке, которую поднес дофине герцог де Ноайль. В день, когда это произошло, в пятницу 5-го числа, дофина, ложась в постель, рассказала дамам о подношении, расхвалила и табак и табакерку, потом послала за нею герцогиню де Леви к себе в кабинет, сказав, что та найдет ее на столе. Герцогиня отправилась, но ничего не нашла; скажу сразу, что, как ее ни разыскивали, никто более не видел этой табакерки с тех самых пор, как дофина оставила ее на столе у себя в кабинете. Когда обнаружилась эта пропажа, она показалась весьма странной; тщетность поисков, которые велись еще долго, в сочетании со столь загадочным несчастьем, приключившимся так скоро, породила самые зловещие подозрения. До человека, подарившего табакерку, эти подозрения не дошли; все так старательно их скрывали, что он о том и не услышал; толки не выходили за пределы самого узкого круга. Принцессу обожали и многого от нее ждали; от ее жизни зависело положение тех, кто входил в этот круг, — оно изменилось бы с переменой ее собственного положения. Табак она нюхала тайком от короля, хотя и без особой опаски, поскольку г-жа де Ментенон об этом знала; но ей пришлось бы дорого поплатиться, если бы об этом проведал король; потому-то все и боялись разгласить странную пропажу табакерки. В ночь с понедельника на вторник 9 февраля дофина была в полном забытьи: днем король много раз подходил к ее постели, но у дофины была сильная лихорадка; иногда больная ненадолго просыпалась, однако сознание ее было затуманено; на коже появились признаки сыпи, дававшие надежду на корь, потому что корью болели в это время многие заметные особы в Версале и в Париже. Ночь со вторника на среду 10-го прошла дурно, тем более что надежда на то, что это корь, рухнула. Король с самого утра пришел к дофине, которой перед тем дали рвотное. Снадобье подействовало исправно, однако не принесло никакого облегчения. Дофина, сидевшего неотступно у нее в алькове, силой заставили спуститься в сады и подышать свежим воздухом: это было ему необходимо, но вскоре тревога погнала его обратно в опочивальню. К вечеру боли усилились. В одиннадцать часов лихорадка возобновилась с удвоенной силой. Ночь прошла ужасно. В четверг, 11 февраля, король в девять утра уже был у дофины; г-жа де Ментенон почти не отлучалась от нее, за исключением того времени, когда принимала короля у себя в покоях. Принцесса была так плоха, что решили предложить ей причаститься. Как ни страдала дофина, это предложение ее поразило: она стала расспрашивать о своем состоянии; ей отвечали, стараясь преуменьшить опасность, но советовали все же принять причастие и постепенно убедили, что лучше с этим не медлить. Она поблагодарила за то, что с ней говорят начистоту, и сказала, что приготовится к причастию. Спустя немного времени появились опасения, что несчастье может произойти с минуты на минуту. О. Ла Рю, иезуит, ее духовник, которого она, казалось, всегда любила, приблизился к ней и стал умолять не откладывать долее исповедь; дофина взглянула на него, сказала, что прекрасно его слышит, и ничего больше не прибавила. Ла Рю предложил ей исповедоваться немедленно, но ответа не добился. Будучи умным человеком, он понял, в чем дело; будучи человеком добрым, тут же перестал настаивать и сказал ей, что, возможно, она не желает исповедоваться именно ему; в таком случае он заклинает ее не насиловать себя, а главное, ничего не бояться; он обещает ей, что все уладит сам; он только просит ее сказать, от кого она хотела бы принять причастие, и он, Ла Рю, приведет ей этого священника. Тогда она призналась, что желала бы исповедоваться г-ну Байи, священнику миссии Версальского прихода. Это был почтенный человек, исповедник самых порядочных придворных, не чуждый, выражаясь языком того времени, душка янсенизма, что, впрочем, было весьма редко среди бернардинцев. Он был исповедником г-жи де Шатле и г-жи де Ногаре, придворных дам, от которых дофина иногда о нем слышала. Оказалось, что Байи уехал в Париж. Принцессу это явно огорчило, и она захотела его дождаться, но о. Ла Рю убедил ее, что лучше не терять драгоценного времени, которое, получив причастие, она с большей пользой уделит докторам, и тогда она попросила, чтобы ей привели францисканца, коего звали о. Ноэль; о. Ла Рю тут же сходил за ним и привел к дофине. Можно себе представить, какого шуму наделала перемена духовника в столь критическую и опасную минуту и на какие мысли навела людей. Я вернусь к этому позже, а теперь не хочу прерывать повествования, проникнутого столь печальным интересом. Дофин был убит горем; он из последних сил старался скрыть свою муку, чтобы не покидать изголовья дофины. Но у него началась такая сильная лихорадка, что утаить ее было невозможно; врачи, желавшие избавить его от ужасного зрелища, которое предвидели, сделали все, что было можно, чтобы самим и при посредстве короля удержать дофина у него в покоях с помощью вымышленных известий о состоянии его жены.
Исповедь была долгой. Вслед за нею дофину сразу соборовали и причастили; король сам принял святые дары у подножия главной лестницы. Часом позже дофина попросила читать отходную. Ей возразили, что она вовсе не так плоха, и, утешив ее, уговорили, чтобы она попыталась уснуть. Днем пришла королева Английская; ее провели по галерее в гостиную, примыкавшую к опочивальне дофины. В гостиной находились король и г-жа де Ментенон; туда же пригласили докторов, чтобы те устроили в их присутствии консилиум: докторов было семеро — придворных и вызванных из Парижа. Все в один голос высказались за то, чтобы пустить кровь из ноги прежде, чем опасность усугубится, а в случае, если кровопускание не принесет желаемого успеха, на исходе ночи дать больной рвотное. В семь часов вечера отворили кровь. Начался новый приступ болей; врачи нашли, что он слабее предыдущего. Ночь принесла больной ужасные мучения. Рано утром проведать дофину пришел король. В девять утра ей дали рвотное, но оно почти не помогло. Весь день одни признаки болезни сменялись другими, все более изнурительными; изредка к больной возвращалось сознание. Совсем уже вечером в опочивальню, несмотря на присутствие короля, допустили множество народу; от духоты нечем было дышать; незадолго до того, как больная испустила дух, король вышел, сел в карету у главного подъезда и вместе с г-жой де Ментенон и г-жой де Келюс уехал в Марли. И король, и г-жа де Ментенон были убиты горем; они не нашли в себе сил посетить дофина.
Никогда не бывало принцессы, которая, явившись при дворе в таких юных летах, была бы так прекрасно к тому подготовлена и так умела воспользоваться полученными советами. Ее хитроумный отец,[1] досконально знавший наш двор, описал его дочери и научил ее единственному способу, как прожить при дворе счастливо. Ей помогли в этом врожденный ум и понятливость; у ней было много обаятельных черт, привлекавших к ней сердца, а положение, которое она занимала благодаря супругу, королю и г-же де Ментенон, приносило ей самые лестные почести. Она искусно добивалась этого с самых первых минут пребывания при дворе; всю жизнь она не покладая рук трудилась, дабы упрочить свое положение, и беспрестанно пожинала плоды своего труда. Кроткая, застенчивая, но умная и сообразительная, добрая до того, что боялась причинить малейшее огорчение кому бы то ни было, и вместе с тем веселая и легкомысленная, прекрасно умевшая облюбовать себе цель и упорно ее преследовать, она, казалось, с легкостью переносила любое, самое суровое, принуждение, давившее на нее всей своей тяжестью. Она была полна дружелюбия: оно било в ней ключом. Она была весьма некрасива: щеки отвислые, лоб чересчур выпуклый, нос незначительный, но пухлые вызывающие губы, роскошные темно-каштановые волосы и того же цвета изящно очерченные брови; глаза у ней были выразительнее всего и воистину прекрасны — а вот зубов мало, и все гнилые, о чем она сама упоминала и над чем подшучивала; превосходный цвет лица, чудесная кожа, грудь невелика, но прелестна, длинная шея с намеком на зоб, ничуть ее не портивший, изящная, грациозная и величественная посадка головы, такой же взгляд, выразительнейшая улыбка, высокий рост, округлый, тонкий, легкий, изумительно стройный стан и поступь богини в облаках. Она'необычайно всем нравилась; невольная грация сказывалась в каждом ее шаге, во всех манерах, в самых незначительных речах. Ее простота и естественность, частенько проявлявшиеся в простодушии, но приправленные остроумием, очаровывали всех, равно как ее непринужденность, сообщавшаяся каждому, кто с нею соприкасался. Она желала нравиться всем подряд, даже самым для нее бесполезным, самым заурядным людям, хотя никакой искательности в ней не было. Казалось, она всей душой безраздельно принадлежит тому, с кем говорит сию минуту. Ее живая, юная, заразительная веселость одушевляла все вокруг; с легкостью нимфы поспевала она везде, подобно вихрю, который вьется одновременно во многих местах, повсюду внося движение и жизнь. Она была украшением всех спектаклей, душой празднеств, увеселений, балов и всех пленяла там грацией, тактом и танцевальным искусством. Она любила игру, и игра по маленькой ее развлекала, поскольку она находила удовольствие в любом занятии; но предпочитала она крупную игру, играла четко, точно, не имея себе равных; в одно мгновение она оценивала шансы каждого, с той же радостью и увлечением в послеобеденные часы предавалась она серьезному чтению, вела беседы о книгах, трудилась со своими «серьезными дамами»-так называли тех ее придворных дам, которые были старше других по возрасту. Она ничего не берегла, даже здоровья, и вплоть до самых мелочей помнила всегда обо всем, что могло доставить ей приязнь короля и г-жи де Ментенон. С ними обоими она обнаруживала немыслимую гибкость, не изменявшую ей ни на минуту. Эта гибкость сочеталась в ней со сдержанностью, которую хранила дофина, хорошо знавшая короля и г-жу де Ментенон по опыту и благодаря своим наблюдениям; свой веселый нрав она проявляла лишь в умеренной степени и к месту. Она приносила им в жертву все — удовольствия, забавы и, повторяю, здоровье. Этим путем она добилась такой близости к ним, коей не удостоивался не только никто из законных детей короля, но даже ни один незаконнорожденный. На людях серьезная, благонравная, почтительная с королем, застенчивая и ласковая с г-жой де Ментенон, которую называла всегда не иначе, как «тетя», изящно смешивая степень родственной и дружеской близости, в семейном кругу она болтала, прыгала, вилась вокруг них; то присаживалась к ним на подлокотник кресла, то вспархивала на колени, бросалась им на шею, обнимала, целовала, ласкала, тискала, дергала за подбородки, донимала их, рылась у них в столах, в бумагах, в письмах, распечатывала эти письма, а подчас и читала их без спросу, когда видела, что король и г-жа де Ментенон в добром расположении духа и только посмеются над этим, и высказывалась о том, что было там написано; от нее ничего не скрывали, она присутствовала при том, как принимали курьеров с важнейшими известиями; к королю она входила когда угодно, даже во время совета; самим министрам она подчас оказывалась полезна, подчас опасна, но всегда готова была делать им одолжения, услуги, выручать, угождать, если только не была сильно предубеждена против кого-нибудь из них; так, она ненавидела Поншартрена, коего иногда при короле называла «ваш кривой урод», и Шамийара, не любить коего были у нее более существенные причины; она вела себя так свободно, что, слушая как-то вечером, как король и г-жа де Ментенон с одобрением говорили об английском дворе и о том, как вначале все ожидали, что королева Анна[2] будет способствовать миру, дофина заявила: «Следует признать, тетя, что в Англии королевы правят лучше королей, а знаете, тетя, почему? — и, все так же бегая и прыгая, продолжала: — Потому что при королях правят женщины, а при королевах мужчины». Поразительно, что, слыша это, король и г-жа де Ментенон расхохотались и признали ее правоту. Я никогда не осмелился бы описать в серьезных мемуарах следующий случай, когда бы он лучше, нежели любой другой, не давал представления о том, с какой смелостью она говорила и делала при них что угодно. Я уже описывал, как располагались обычно в покоях г-жи де Ментенон она сама и король. Однажды вечером в Версале давали комедию; перед тем принцесса вдоволь наболталась обо всем на свете; тут вошла Нанон, старая горничная г-жи де Ментенон, о коей я уже несколько раз упоминал; увидев ее, принцесса в пышном своем туалете и в драгоценностях подошла к камину и стала к нему спиной, прислонясь к небольшому экрану между двух столиков. Нанон, держа руку как бы в кармане, зашла ей за спину и опустилась на колени. Король, сидевший к ним ближе всех, обратил на это внимание и спросил, что они там делают. Принцесса рассмеялась и отвечала, что занимается тем же делом, что и всегда в те дни, когда дают комедии. Король не унимался. «Ах, так вы ничего не заметили? Да ведь она ставит мне клистир». «Как?! — вскричал король, задыхаясь от смеха. — Вот сейчас, здесь, она ставит вам клистир?» «Ну разумеется, — отвечала принцесса. — А вам как его ставят?» И все четверо покатились со смеху. Нанон, оказывается, под юбками проносила в гостиную клистирную трубку с водой, задирала юбки принцессе, которая придерживала их, словно греясь у камина, покуда Нанон вставляла клистир. Потом юбки опускались, Нанон прятала и уносила трубку, и со стороны ничего не было заметно. Король и г-жа де Ментенон не обращали на это внимания или думали, что Нанон что-то поправляет в туалете принцессы. Они изрядно удивились и нашли все это забавным. Удивительно, что после клистира принцесса отправлялась в комедию, не испытывая потребности извергнуть из себя воду; иногда она делала это лишь после ужина и посещения кабинета короля; она уверяла, что это ее освежает, а иначе у нее в комедии разболелась бы голова от духоты. После того как это обнаружилось, она не стала церемониться больше, чем до того. Короля и г-жу де Ментенон она знала в совершенстве; она постоянно видела и понимала, что представляют собой г-жа де Ментенон и м-ль Шуэн. Однажды вечером, собираясь идти в постель, где ждал ее герцог Бургундский, она, сидя на стульчаке, болтала с г-жой де Ногаре и с г-жой де Шатле, которые наутро мне о том рассказали; в такие минуты она охотнее всего пускалась в откровенности; итак, она с восторгом говорила с ними об обеих феях, а потом засмеялась и добавила: «Я хотела бы умереть раньше герцога Бургундского, но видеть после смерти все, что здесь будет; я уверена, что он женится на монахине медонской общины или привратнице монастыря дочерей св. Марии». Герцогу Бургундскому она старалась угодить неменьше, чем самому королю, и хотя частенько грешила излишним легкомыслием и чересчур полагалась на молчание тех, кто ее окружал, но величие и слава мужа были предметом ее неусыпного внимания. Мы видели, как затронули ее события Лилльской кампании и ее последствия, видели, какие старания прилагала она ради возвышения мужа и как полезна ему бывала в весьма важных делах, которыми, как уже говорилось, он был ей всецело обязан. Король не мог без нее обойтись. Часто, когда он, побуждаемый дружбой и нежностью, заставлял принцессу участвовать в увеселениях, которые могли бы ее развлечь, в семейном кругу никто не в силах был заменить ему ее, и до самого ужина, к коему она почти всегда поспевала, весь облик короля словно хранил на себе печать озабоченности и уныния. Но и принцесса, хоть и любила увеселительные поездки, была в этом отношении очень сдержанна и всегда дожидалась, пока ей прикажут ехать. Она весьма тщательно старалась навещать короля перед отъездом и по приезде, и, если случалось ей пропустить ночь — зимою из-за бала, летом из-за увеселительной поездки, — она всегда ухитрялась прийти наутро поцеловать короля, как только он проснется, и позабавить его рассказом о празднестве. Я уже столь подробно рассказывал, какие притеснения чинили ей Монсеньор и его приближенные, что не стану повторяться; скажу лишь, что большая часть двора ничего не замечала — так старательно скрывала принцесса свои обиды под видом непринужденных отношений со свекром, дружбы с теми, кои были ей при дворе всех враждебнее, и свободы в их кругу в Медоне; это стоило ей бесконечной изворотливости и такта. Однако она весьма чувствовала вражду и после смерти Монсеньора решила отплатить им тою же монетой. Как-то вечером в Фонтенбло все принцессы и их дамы собрались после ужина в кабинете, где был король; дофина болтала обо всем на свете и дурачилась без удержу, чтобы развеселить короля, которому это было приятно, как вдруг заметила, что герцогиня Бурбонская и принцесса де Конти переглядываются, обмениваются знаками и передергивают плечами с презрительным и высокомерным видом. Когда король поднялся и по обыкновению прошел в задний кабинет, чтобы покормить собак, собираясь затем вернуться и пожелать принцессам доброй ночи, дофина одной рукой привлекла к себе г-жу де Сен-Симон, другой г-жу де Леви и, кивая им на герцогиню Бурбонскую и принцессу де Конти, стоявших в нескольких шагах, сказала: «Вы видели, видели? Я не хуже их знаю, что городила вздор и вела себя как дурочка; да ведь ему нужно, чтобы был шум: это его развлекает, — и, опираясь на их руки, тут же принялась прыгать и распевать: — А мне смешно на них смотреть! А я над ними потешаюсь! А я буду их королевой! А мне они не нужны, и теперь не нужны, и никогда не понадобятся! А им придется со мною считаться! А я буду их королевой!» — и прыгала, и скакала, и веселилась при этом от души. Дамы потихоньку стали ее унимать, говоря, что принцессам все слышно и что все на нее смотрят; сказали даже, что она с ума сошла, благо от них она сносила любые замечания. Тогда дофина запрыгала еще выше и замурлыкала еще громче: «А мне на них смешно смотреть! А они мне не нужны! А я буду их королевой!» — и не замолчала, покуда не вернулся король.

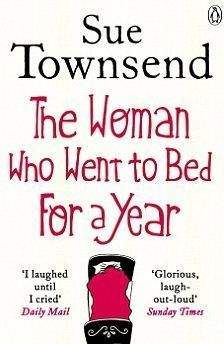
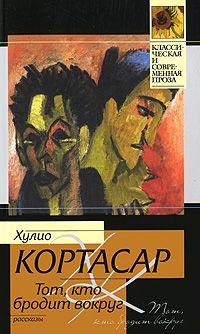








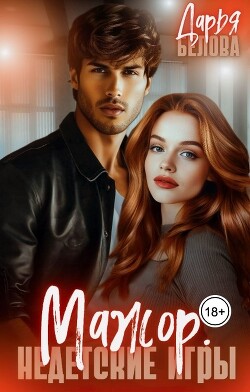


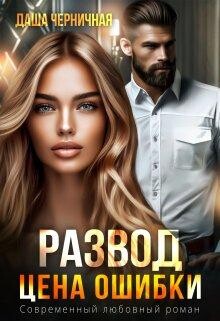




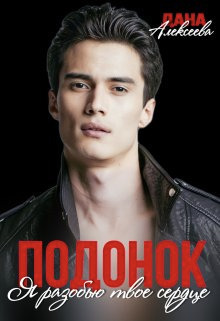



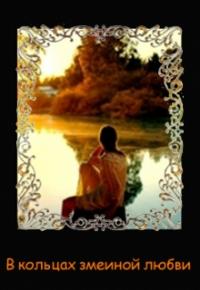

![Судьба, возможно, ты ошиблась [СИ] - Аграфена](/uploads/posts/books/327423/327423.jpg)