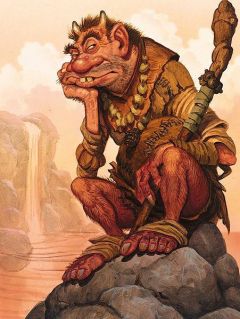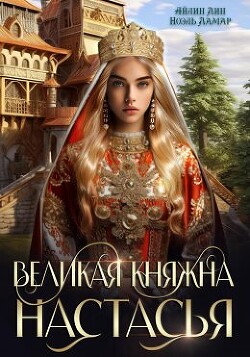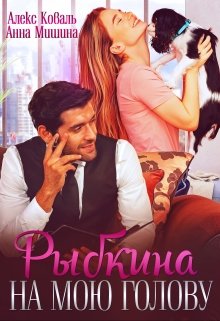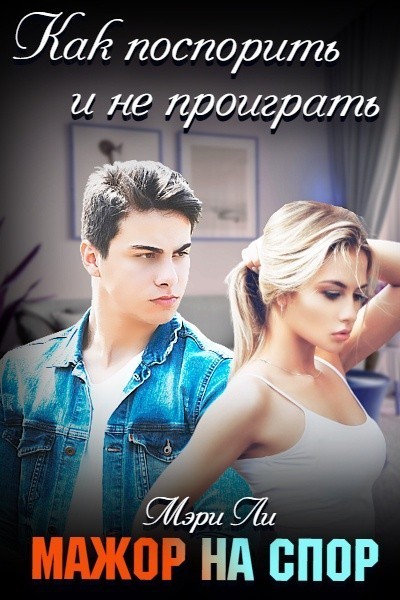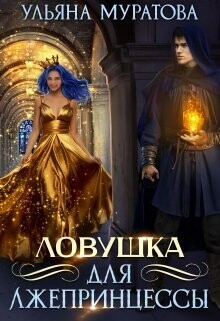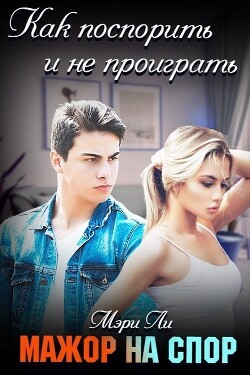Марк Липовецкий - Паралогии

Помощь проекту
Паралогии читать книгу онлайн
Чтобы избежать этого невозможного с ортодоксально-детерминистской точки зрения парадокса, некоторые современные исследователи пытаются представить русский постмодернизм феноменом, принадлежащим исключительно посткоммунистическому периоду. Это, конечно, не так. Посткоммунистический период представляет собой одну из поздних фаз художественного процесса, который начался в русской неофициальной литературе еще во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов. Причем этот процесс, вопреки устойчивым представлениям, не был замкнут в пределах андеграунда, но в немалой степени затронул и творчество писателей, признанных в официальной советской культуре. Р. Эшельман в своей монографии «Ранний советский постмодернизм»[6] убедительно показывает, как в реалистической прозе 1970-х кризис советской ментальности порождает черты, сопоставимые с важнейшими элементами постмодернистской «эпистемы». Так, в основании художественной философии зрелого Трифонова исследователь находит ризоматическую (по Делёзу) — то есть неиерархическую — связь всего со всем: большого с малым, личного с историческим. А у Василия Шукшина поведение его «чудиков» характеризуется «эпистемологическим сомнением» (Д. Фоккема), невозможностью различить свободу от зависимости, счастье от горя, собственную точку зрения от навязанной или чужой и т. п.
Следовательно, более или менее «автохтонные» истоки русского постмодернизма следует искать в логике советской модерности — или того социокультурного образования, которое сформировалось в СССР «на месте» модерности как особого типа культуры.
Вопрос об отношении советской модели к традиционно понимаемому европейскому модерну интенсивно дебатируется. Так, например, Р. Такер[7] возражает против интерпретации сталинизма как исключительно модернизирующего проекта, настаивая на том, что культура и социальность этого периода представляют собой радикальный отказ от модерности и возвращают советское общество к домодерным (допетровским) социокультурным моделям. Стивен Коэн[8] говорит о «двух Советских Россиях» — одной (в крупных городах), отчасти модернизированной — индустриальной и технологичной, другой (деревенской и крестьянской) — радикально архаизированной. Моше Левин считал, что советский модернизационный проект столкнулся с традиционалистской крестьянской культурой большинства населения страны, и, борясь с ней, парадоксальным образом абсорбировал именно архаические черты крестьянского сознания: коллективизация и индустриализация привели к притоку крестьян в города, служившие основными очагами модернизации[9].
С другой стороны, в ряде исследований конца 1980-х — начала 1990-х годов советский опыт нередко рассматривается как «альтернативная модерность» — на том основании, что советская модель, так же как и либерально-демократические версии модерна, опирающиеся прежде всего на развитие капитализма, была движима «этосом социального интервенционизма и массовой политикой»[10]. Так, Шейла Фитцпатрик показывает, что социальной основой сталинизма становятся сформировавшиеся в советское время профессионалы — советский «средний класс» инженеров, менеджеров, офицеров, консервативных в культурном отношении, но технически грамотных и политически преданных режиму[11]. Стивен Коткин демонстрирует, как в 1930-е годы в Советском Союзе создается такой важный элемент модерности XX века, как система обеспеченных государством социальных гарантий — то, что в другом виде на Западе получает название welfare state[12]. А Зигмунт Бауман вообще связывает коллапс коммунизма с кризисом дошедших до логического тупика модерных стратегий социального «садоводства» — насаждения рационального (или полагающего себя рациональным) менеджмента по отношению ко всем стратам социальной и культурной жизни[13].
Поворот в изучении советской цивилизации происходит во второй половине 1990-х годов во многом под влиянием методологических идей М. Фуко. В центре внимания оказывается не политическая борьба, идеологические, экономические и государственные трансформации, а практики повседневной жизни, инфраструктуры социальных связей и отношений — такие, как ценности, язык и социолекты, идентичности, верования, мифологии и т. п., пронизывающие как коллективную, так и индивидуальную жизнь Советских людей. Центральной категорией в этом научном дискурсе становится категория субъективности, понимаемая как процесс взаимодействия между индивидуумом и государством, формирующий социального субъекта[14]. Так, например, Коткин в книге «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация» (1995) пристально изучает социальную инфраструктуру Магнитогорска 1930-х годов как одного из центров индустриализации. Коткин демонстрирует сложный процесс переговоров и социального сопротивления, сопровождающий индустриальную модернизацию и оформление советской версии welfare state. Такой анализ, разумеется, не вписывается в представления о тоталитарном обществе как централизованно управляемом и полностью контролируемом «сверху» и ставит под сомнение применимость концепции тоталитаризма (в том виде, в каком она была сформулирована Ханной Арендт) к сталинизму как цивилизации. С одной стороны, сам этот процесс сопротивления, переговоров и корректировки модернизационных проектов предстает как характерный для «нормальной» модерности, хотя и протекающий в специфически советских формах, то есть без открытой дискуссии в прессе, без многопартийности, без свободы информации и т. п. С другой стороны, Коткин находит глубинное противоречие советского общества в конфликте между процессами модернизации и теократической ролью партии: «Обе составляющие партийного государства были функциональными, но их функции были различны: в то время, как роль государства определялась в терминах компетентного технического и экономического администрирования, роль партии определялась в терминах идеологического и политического руководства. Такое раздвоение политической системы, в которой роль партии была аналогична роли церкви, напоминало о теократии особого рода… Формирование теократической системы, которая постепенно приобрела соответствующую религиозную ауру, имело фундаментальные последствия, начиная с сакрализации всех видов деятельности, больших и малых, и кончая самоуничтожением (self-immolation) самой партии»[15].
Тот факт, что одни и те же люди входили в партийное и в административное руководство, не разрешал, а лишь усугублял этот конфликт. Коткин считает это внутреннее противоречие между функциями теократической системы — модернизирующей и квазирелигиозной — одним из основных факторов, приведших к террору 1930-х годов, понимаемому им как самоуничтожение советских элит. Это самоуничтожение прямо сравнивается исследователем с инквизицией; его факторами, кроме указанного противоречия, становятся также социальная ненависть большинства к «новому классу» советской элиты, пользующейся многими привилегиями, и мифология врага, внешнего или внутреннего (создаваемая властью и благодарно воспринятая и преумноженная в массовом сознании) — не только как «козла отпущения», на которого можно было бы списать просчеты и провалы модернизации, но и как фундамента советской идентичности, строящейся как «антикапиталистическая» (Лев Гудков не случайно называет советскую идентичность «негативной»[16]). Немалую роль, по Коткину, играют и формирующиеся на этой основе массовая паранойя и ксенофобия, которые питают доносительскую «активность масс».
Концепция С. Коткина близка к взглядам других современных исследователей (А. Вишневского, Е. Добренко, Б. Дубина и Л. Гудкова, М. Кивинена, Н. Козловой, Ш. Фитцпатрик, И. Халфина, Й. Хеллбека, Д. Хоффмана и др.), которые видят в советской социокультурной модели не уникальный, но во многих отношениях крайний вариант «консервативной» или «мобилизационной» модернизации. На мой взгляд, возникающий в ходе этого процесса вариант модерности точнее было бы назвать архаизирующим, поскольку в этой парадигме цели управляемого прогрессивного развития, эффективности и безличности государственных институтов, рационализации и упорядочивания социального устройства достигаются путем актуализации архаических, традиционалистских и квазирелигиозных методов коллективистской социальной интеграции и идентификации. Обобщая логику этого переосмысления сталинизма, Е. Добренко пишет:
Главным экономическим и политическим событием советской эпохи, содержанием и задачей сталинизма была модернизация страны и переход к «дисциплинарному обществу»… Однако русское общество, основанное на преддисциплинарной традиции, было не готово — ни политически, ни институционально, ни культурно — к «дисциплинарному обществу». Это определило специфику сталинизма как предприятия по созданию индустриального общества в преддисциплинарных формах… В большевизме, этом русском изводе марксизма, была несомненная завороженность западной индустриальной цивилизацией… неотделимая от собственной русской «эгалитаристской, псевдоколлективистской, антирыночной, антибуржуазной, антизападной, одним словом, „социалистической“ утопии»[17]. Этой двойственностью пропитана вся советская идеология, в которой пафос индустриализма сочетается с опорой на «традиционные ценности», идеология «пролетарского интернационализма» может вполне идти рука об руку с борьбой с «безродным космополитизмом», а «поэзия покорения природы» — уживаться с вполне консервативной «поэзией малой родины» и т. д.[18]