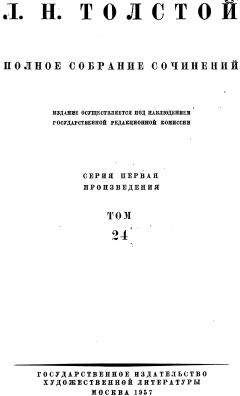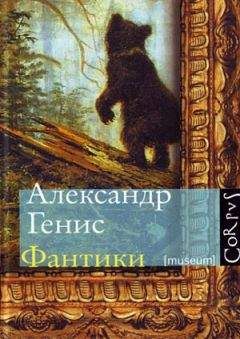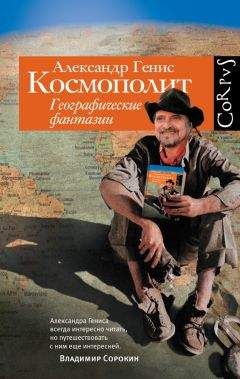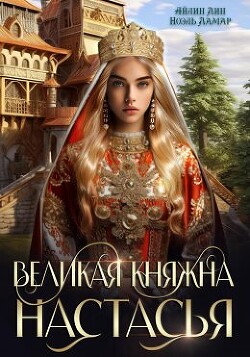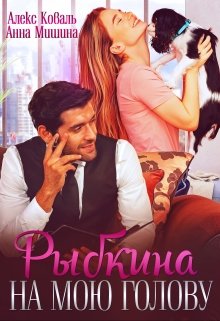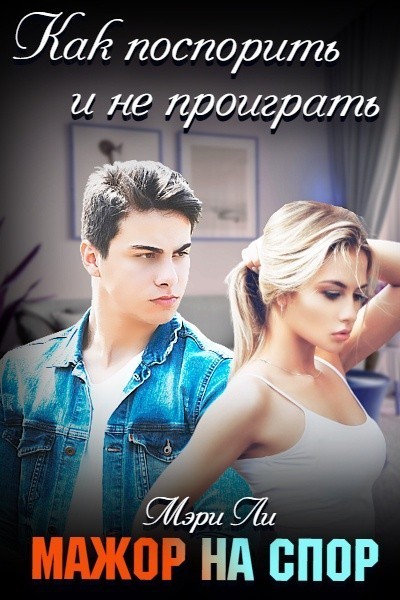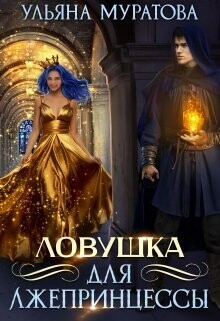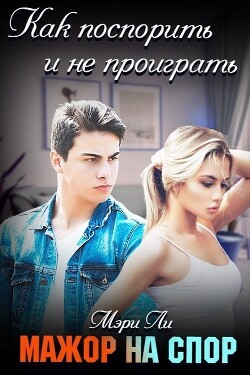Александр Генис - Вавилонская башня

Помощь проекту
Вавилонская башня читать книгу онлайн
Робинзон был так же одинок, как наш век в истории.
XX столетие чувствовало себя оторванным от прошлого не хронологией, а самим качеством перемен. Ощущение порога — тревожная интуиция предшествующей эпохи — полностью воплотилось в нашей. Та часть суши, которую осваивал XX век, на глобусе истории была необитаемым островом. Во всяком случае, в нашем отечестве. Не отсюда ли, между прочим, и эта идея — разрушить все до основания? Есть в ней заразительный соблазн. Ведь она обещает радость созидательной деятельности на пустом месте.
Может, не так уж и глупо было оборвать корни. Революция своего рода эмиграция. Порвать рубаху, сжечь дом, зарезать корову и пуститься за океан, рассчитывая только на себя и удачу. Азартная эмоция начать все сначала — не она ли и привлекает нас в любой робинзонаде?
Оставшись на пустом берегу, Робинзон заново ощущает ценность каждой вещи: он отстраняет предметный мир за счет дефицита. Поэтому у Дефо самые яркие герои — точильный станок и деревянная лопата.
Советский роман очень быстро нащупал эту тему. Так, например, Макаренко в своих книгах сумел подменить традиционный роман воспитания производственным романом. Посреди разрухи и нищеты вещи были и ярче, и интереснее, и дороже людей. В опустошенном революцией мире процветал культ вещей. По сути, весь советский роман — производственный. От «Цемента» до «Не хлебом единым», от Днепрогэса до Братской ГЭС, от Маяковского до Евтушенко советская культура воспевала рождение вещей. Дело было превыше всего, потому что мир без него пуст, как неподнятая целина. (Кстати, неплохо бы понять, почему революция-перестройка, обещавшая как раз тот же самый робинзоновский энтузиазм разрушения-воздвижения, увязла в апатии? Может быть, потому, что жалко было всего уже построенного? Раньше-то ломали чужое, теперь — свое.)
Однако, пока Робинзон трудится в одиночку, он подражает Творцу. Несколько Робинзонов- это Олимп. Но угрюма толпа робинзонов.
Пафос робинзонады растворился в темной воде массового общества, не различающего личного вклада. Не оттого ли американцы так любят сами строить и перестраивать свои дома, что тут труд нагляден — от начала до конца, от крыши до фундамента? Это ведь совсем не то же самое, что пахать от забора до обеда.
Человек XX века, этот обманутый Робинзон, пришел из прошлого на необжитый остров будущего как его полновластный хозяин. Как и настоящий Робинзон, он не был нищим, с ним были потрепанные, но еще годные в дело останки старой цивилизации — остов разбитого бурей корабля. Поэтому, пожалуй, самые волнующие минуты (или десятилетия) он провел за инвентаризацией. Лозунг «грабь награбленное» велик тем, что чужое добро нашло не только нового владельца, но и новое назначение и новую ценность. Есть варварская производственная поэзия в том, чтобы чинить сарай крышкой от рояля.
Не зря и наша интеллигенция с пылом принимала участие в экспроприациях. Может быть, отсюда тот духовный подъем, которым пронизаны почти все мемуарные свидетельства о самых первых послереволюционных годах. Скажем, издательство «Всемирная литература» выпустило, перевело, отредактировало и откомментировало сотни томов прошлой литературы в самое неподходящее для этого дела время — в Гражданскую войну. Видимо, разруха только подчеркивала сладость революционной робинзонады. Другое дело, что семена для посева брали из чужого урожая.
В самых радикальных порывах XX века, хоронящего ХIХ, всегда присутствовал момент подробного прощания с усопшим или убитым. Прежде чем сбрасывать классиков с парохода современности, на них бросали любопытный, если не влюбленный, взгляд. (Не той же робинзоновой алчностью питается и нынешний постмодернизм?)
Затосковал наш век только тогда, когда окончательно распорядился наследством и остался наедине с самим собой.
Стоило XX веку оглядеться, как мираж исключительности растаял на заре массового общества, где одному никак не удавалось отличиться от других. Робинзонов оказалось слишком много — они потерялись в скучной толпе себе подобных. Что и неудивительно. В конце концов, Крузо был заурядным обывателем.
Массовое общество- это толпа без структуры. ХIХ век знал суровую иерархию, застывшую в сословном и культурном каноне. Отсюда — его завидная устойчивость, явленная нам в совершенном и завершенном викторианстве. ХIХ век был ориентирован строго по вертикали. XX открыл и освоил горизонталь. «Кто был никем, тот станет всем» — эта наполеоновская модель, воодушевившая на подвиги наше столетие, не учитывает множественного числа.
Бонапарт сидел на чужом, приготовленном ему историей троне. Кухарка, управляющая государством, заняла свое место. Маленький капрал стал великим императором, маленький же человек, даже добравшись до вершины, остался маленьким человеком — той же кухаркой. Наполеон использовал в своих целях существовавшую и до него культуру. Захватившие власть кухарки, как писал Томас Манн о Гитлере, «поучительно предписывали нации культурную программу».
Тоталитарные эксперименты были попытками вернуть двухмерному горизонтальному обществу третье измерение, вернуть ему вершину.
Старая пирамида — самая устойчивая во всей геометрии фигура, которую так уверенно оседлал когда-то Робинзон, — рухнула еще в окопах Первой мировой войны понять которую мы уже не способны, потому что ее истоки целиком в прошлом. Для нас та война опутана пустыми подробностями, которые лишь маскирует грандиозное недоразумение — трагическое противоречие между старым сознанием и новой мощью.
XX век жестоко и окончательно расправился с XIX, руины которого и пришлось обживать массовому обществу. Жидкое, текучее, аморфное, оно заполняло собой пустоты, оставшиеся от некогда величественных сооружений. Мир, лишенный оформленности, тосковал по жестким конструкциям, по новой пирамиде, которая могла бы вернуть истории прежнюю надежность, предсказуемость, повторяемость.
XX век был заполнен поисками этой новой геометрии, способной смирить буйную стихию масс. Он жаждал закона — смысла как оправдания.
Хотя жажда и осталось неутоленной, похмельем она нас все же наказала. Пожалуй, только сегодня мы сможем наконец найти подходящую верхнюю точку, с которой история нашего времени читается как репортаж с неудавшегося пиршества духа.
Двое на качелях
Кафка писал: «Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют потому, что всегда лежат на поверхности». Тут слышится голос человека XIX века, который тоскует по нюансам и полутонам, по структурности жизни, потому, что Леонтьев называл «цветущей сложностью».
Однако в упрощенном и обобщенном мире XX века как раз антитезе предстояло пережить свой триумф. Тире — это родовое пятно революционного сознания — любимый знак препинания нашего столетия.
Одно из таких тире соединяет и разделяет изначальный, свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, который во все эпохи реализуется в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в разные стороны. Но наше столетие с присущим ему радикализмом попыталось разрубить этот гордиев узел.
Давайте пройдемся вдоль XX века, чтобы разобраться в тех псевдонимах, которые принимали романтизм и классицизм на протяжении его истории.
Родился XX век романтиком. Как и положено молодым, он восстал против догмы степенного прогресса, который и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. XIX век верил в учебник, задачник, справочник, энциклопедию, в периодическую таблицу, в собрание частных истин, складывающихся в общую правду. По этому прямодушию мы сегодня тоскуем, но выходцам из XIX века он не нравился. Им он, наверное, казался сухим и безжизненным, как гимназический учитель, как «человек в футляре».
Заранее разложив все по полочкам, легче искать нужное в темноте. Но новый век, устав от порядка, искал внутреннего света, смягчающего сухие прагматические сумерки. Восстав против механической сложности, он искал простоты — нового языка, на котором говорит не ум, а сердце.
Запад открывал для себя африканские примитивы, в Европе появились Матисс и Пикассо, в Америке — Голливуд и танго.
Обнаружив условность и ограниченность правды XIX века, XX рвался сквозь нее — из сознания в подсознание. Мир как на дрожжах рос и вширь и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Дух науки, который культивировал XIX век, сменялся духом искусства. Даже на место добротной и прочной ньютонианской Вселенной пришла игривая и двусмысленная относительность Эйнштейна.
Во всем этом легко узнать вечные проделки шаловливого романтизма, который горазд ломать, а не строить спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма. Поэтому XIX век легко справлялся с разбуженной романтизмом чувственностью, переламывая ее своей аскетической доблестью — верой в долг. XX век играл с куда более опасным огнем: реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому, — массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды.