Эдвин Шнейдман - Душа самоубийцы

Помощь проекту
Душа самоубийцы читать книгу онлайн
Мне никогда не приходилось слышать, чтобы отец о ком-то говорил плохо. Он никогда и никого не унижал и был удивительно вежлив с людьми. Его отличала доброта, милосердие, терпение. Свои жизненные тяготы (а они, естественно, у него имелись) он нес молча. Он был сама терпимость.
Отец буквально боготворил чистоплотность. Он работал гладильщиком мужских рубашек и каждый день перед работой до блеска начищал свою одежду и обувь.
Он был стеснительным, много размышлял и мало говорил. Он любил людей и просто обожал детей. Я навсегда запомнил его воздушную улыбку и мигающие глаза…
Скажу несколько слов и о твоей бабушке. Моя мать была красивой, женственной, отличалась добротой, самоотверженностью, самопожертвованием и другими истинно материнскими чертами, была чуть старомодной и нереально относилась к житейским проблемам. Но это не мешало ей быть чудесной матерью.
До сегодняшнего дня я ясно сохранил детские осязательные и зрительные воспоминания о том, как мы с дедушкой идем вдоль Пасифик Палисэйдс в Санта-Монике и моя маленькая ручонка покоится в его руке. (Он умер в январе 1923 года, так что мне в ту пору не могло быть более четырех с половиной лет.) Именно слово «доброта» сейчас приходит мне в голову, когда я вспоминаю об этом мягком усатом человеке с милосердными, добрыми глазами.
Одним из наиболее дорогих для меня воспоминаний является ощущение ласкового прикосновения отцовской ладони к моей голове. Часто по вечерам, когда я учился в школе, а затем в колледже, отец, придя вечером с работы, тихонько заходил ко мне в комнату, где я готовился к занятиям, и едва ощутимо нежно прикасался рукой к моим волосам, с любовью поглаживая меня по голове. До сих пор я храню ощущение его ладони на моих волосах, хотя с тех пор давно уже облысел. Мы иногда не обменивались ни единым словом — ведь я занимался. Позже, естественно, мы разговаривали в другой комнате или на кухне, где ужинали вместе с матерью. Однако именно то ощущение, что он своим прикосновением дал мне родительское благословение, очень сильно во мне и сейчас. Что может ребенок получить от родителей больше, чем душевное проявление их принятия и поддержки?
Уже по определению каждая жизнь несет в себе свои собственные уникальные печали и триумфы. По этой причине я считаю, что в рамках определенных в начале книги целей этой автобиографии, моя жизнь — как и жизнь любого человека — не может служить руководством или проторенной дорогой для другого, даже для воодушевленного начинающего психолога. Время и Zeitgeist4, в котором проходила моя жизнь, канули в прошлое; природа нашей профессии изменилась; мои учителя и наставники были уникальными и неповторимыми; и вакансии возможностей, открывавшиеся передо мной в то или иное время, уже заняты. Жизнь — не путеводитель; но она также не может служить и предостерегающей историей.
Нарцисстической части меня в значительной мере польстило приглашение написать автобиографию в уважаемой серии «История клинической психологии в лицах», и поэтому я провел несколько сеансов интроспекции наедине с пишущей машинкой, напечатав весьма искренний отчет об одном из срезов своей жизни. Он не является ни нравоучительной пьесой, ни подпольным представлением. Это всего лишь мой отчет. Кто-то может счесть мою жизнь скучноватой, но мне она кажется не допускающей изменений — и, случись такая возможность, я бы с радостью прожил ее снова.
Последняя фраза является прямым заимствованием из пролога к автобиографии Бертрана Рассела (Russell, 1967) и, по-моему, содержит особый скрытый смысл. Она подразумевает, что я считаю свою жизнь «достаточно хорошей»; что я, в целом, остался доволен ею; что я прожил ее, неплохо справившись со стоявшими задачами; далее, что я всегда считал, что пройду по жизни в относительной целости и сохранности — иными словами, что я отношусь к оптимистам. Мне представляется, что оптимизм—пессимизм представляет собой основное измерение человеческой жизни. В соответствии с моими наблюдениями, лица, отличающиеся суровой непреклонностью, чрезмерной робостью, склонностью говорить «нет», мрачной угрюмостью и пессимизмом, отчасти способствуют осуществлению своих мрачных пророчеств и склонны завершать печальным образом свою и без того несчастную жизнь. И я уверен, что противоположная тенденция присуща людям, полным энергии, страсти, энтузиазма и жизнеутверждения, то есть нам, оптимистам. Эта черта досталась мне опосредованно от родителей, которым каким-то образом удалось своего младшего сына — ослабленного, болезненного, исполненного любопытства и слегка гиперактивного ребенка маленького роста — одарить неистощимым чувством собственной неповторимости, а также заставить ощущать себя человеком, которого не настигнут в жизни никакие по-настоящему серьезные бедствия, и, если он будет примерно себя вести (а я почти всегда так и поступал), отличные оценки украсят его жизненный аттестат.
Здесь будет кстати упомянуть, что моя бабушка по материнской линии внезапно скончалась в нью-йоркском метро в феврале 1918 года. Ее смерть повергла мою мать (беременную мной) в состояние глубокой депрессии. Поэтому, когда я появился на свет 1 мая, мне суждено было расти слабым ребенком, да еще на искусственном вскармливании. Как ни странно, это оказалось наиболее удачным событием в моей ранней жизни (конечно, исключая зачатие), ибо родители не только приложили все силы, чтобы сохранить мне жизнь, но своим трепетным вниманием, требовавшимся этому хилому младенцу, заставили его почувствовать — в отличие от несчастных детей, описанных Рене Спитцем5, — что он каким-то добрым волшебством огражден от океана людских страданий. Много лет спустя я наблюдал сходный феномен у нескольких человек, предпринявших попытки к самоубийству (самосожжение, прыжок с высоты, выстрел в голову), и чудом, несмотря на весьма малую вероятность спасения, оставшихся в живых. Впоследствии — пережив испытания, угрожавшие жизни — они чувствовали себя как бы заговоренными, без каких-либо суицидальных тенденций, и ощущали (в реалистических пределах) свое всесилие. Эти мои детские переживания могут объяснить одно из самых глубинных моих чувств к самому себе, взлелеянное родителями, спасавшими мою жизнь.
После этих рассуждений я, возможно, удивлю читателя, заявив о глубоком убеждении, что мой неизменный интерес (почти одержимость) к проблеме самоубийства совершенно не отражает мою внутреннюю психодинамику. К изучению суицидов я «пришел» совсем случайно, — как именно, я расскажу дальше — «обнаружив» несколько сотен предсмертных записок самоубийц и интуитивно осознав их потенциальную ценность для науки и, откровенно говоря, для моей дальнейшей карьеры в психологии.
В то время, в 1949 году, я стажировался в области клинической психологии и живо интересовался тематическими проективными методиками. «Тематический апперцепционный тест (ТАТ)» Мюррея казался мне чрезвычайно изобретательным и эффективным способом сравнительно быстрого отслеживания ведущих психодинамических коллизий индивида. Под его влиянием я разработал собственную вариацию ТАТ — тест «Составь рассказ по картинкам (MAPS)» и приступил к написанию работы «Анализ тематических тестов» (Shneidman, 1951). Короче говоря, у меня присутствовал несомненный интерес к «…личным свидетельствам в психологической науке» (Allport, 1942). Документы, принадлежавшие живым людям, их дневники, письма и автобиографии имели для меня почти вуайеристическую привлекательность. По непонятным причинам Олпорт не упомянул одно из наиболее интимных личных свидетельств — предсмертные записки самоубийц.
А между тем они, являясь образцами личной документации, составляют законную часть психологической науки, и я не мог не обратить на них внимание. Мой интерес не столько касался проблемы самоубийства, сколько имел отношение к одной из основных частей моей личности: стремлению к захватывающим переживаниям, в данном случае — к увлекательной интеллектуальной деятельности. Мне кажется, что психодинамическая струна, которую затронуло обнаружение этих предсмертных записок, больше резонировала с процессом, чем с их содержанием: имелась трудная задача, и ее следовало разрешить, а именно: вырвать у записок их тайны и понять нечто важное, касавшееся их авторов. Я уверен, что если бы мне пришлось натолкнуться на тысячу дневников больных шизофренией или автобиографий гомосексуалистов, то я с не меньшим азартом окунулся бы в изучение эндогенных психозов или проблем сексуальных меньшинств, что бы об этом ни подумали окружающие. Если говорить о самоубийствах, то в сороковые годы они являлись совершенно неизученной областью. Образно выражаясь, я напоминал ковбоя, который однажды ночью, возвращаясь домой навеселе, случайно споткнулся и упал в лужу с нефтью, и при этом у него хватило трезвости распознать свое потенциальное (в моем случае, лишь интеллектуальное) богатство.


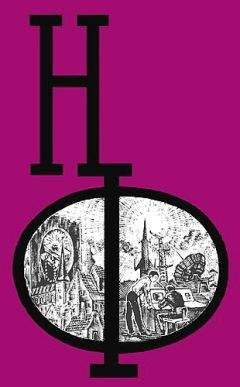








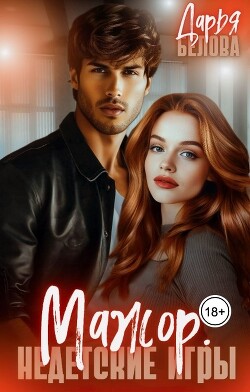


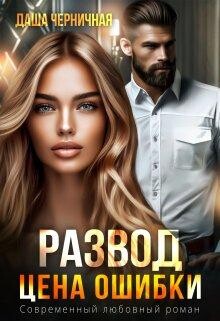




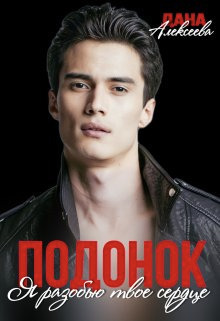



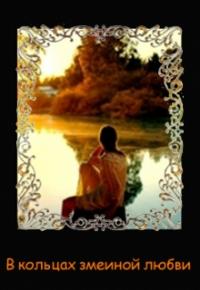

![Судьба, возможно, ты ошиблась [СИ] - Аграфена](/uploads/posts/books/327423/327423.jpg)