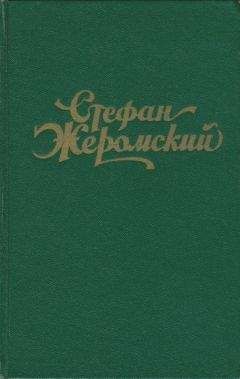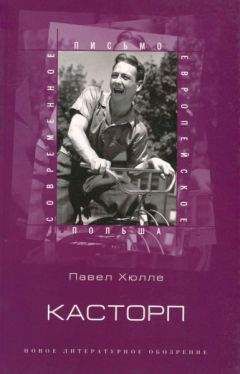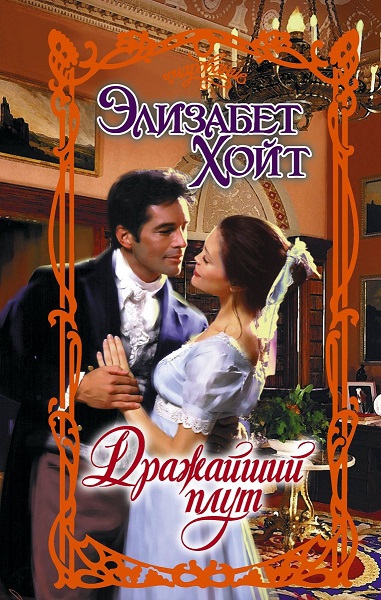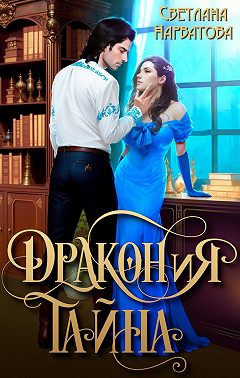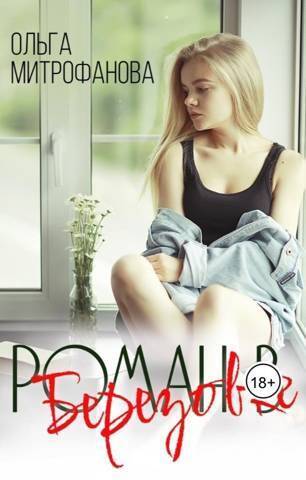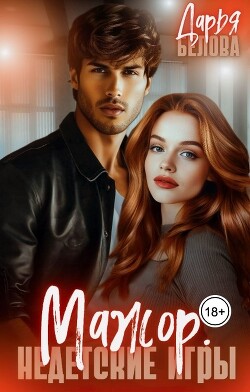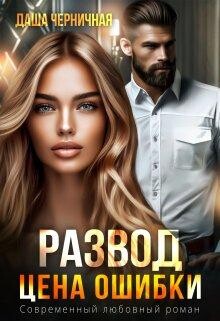Павел Хюлле - Мерседес-Бенц
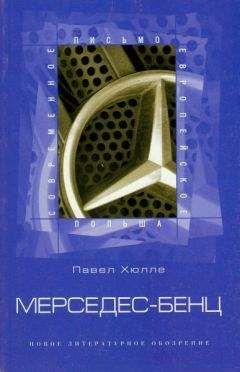
Помощь проекту
Мерседес-Бенц читать книгу онлайн
Проза былых времен
«„Мерседес-бенц“. Из писем к Грабалу». Так много слов, сто сорок три с половиной страницы слов — и столько теплой тишины. Подобное ощущение бывает, когда рождаются воспоминания. Прошлое разговаривает шепотом, ходит в войлочных тапочках. Даже прежний крик сегодня доступен лишь взору — от него остается лишь образ. «Крик» Эдварда Мунка. Черная воронка разверстого горла и непреодолимое молчание на ее дне. Ничего больше. Хюлле — Мунк в прозе? Можно, пожалуй, сказать и так. И не будь это чересчур пафосно, я бы повторил за Толстым: опиши тишину собственной памяти, и ты опишешь мир.
«Milý pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku — Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг, потому что, вспоминая тот свой первый майский вечер, когда, перепуганный и не на шутку взволнованный, я впервые сел за руль „фиатика“ панны Цивле, единственной инструкторши в фирме „Коррадо“ (…)». Так начинается «Мерседес» — фразой, которая длится две, а то и три страницы. Хюлле пишет большими периодами, на едином дыхании. Слова, что ходят в войлочных тапочках, все не дают поставить точку, все пытаются ее заговорить, словно опасаясь, как бы очередная из таких точек не оказалась последней — и в тексте, и в памяти. Ведь что тогда? Плоское, будто блин, существование исключительно «здесь и сейчас»? Кто знает, может, и Кантор ужасно боялся завершения «Умершего класса»[1], каждого финала каждого спектакля. Его, вероятно, пугала мысль о том, что память может остановиться. Отсюда — повторяющийся рефрен вальса Франсуа, ритм соскальзывающей с заигранной граммофонной пластинки иглы. Еще раз, и еще, и еще… Бесконечные фразы Хюлле вновь и вновь описывают удивительные круги во времени и пространстве. Писатель чередует совершенный вид прошлого — и несовершенный настоящего, призывает призраки предметов, тел, форм и запахов минувшего, возрождает те вкусы, заклинает тот дождь. Стоит только рассказчику Павлу впервые повернуть ключ в замке зажигания «фиатика» панны Цивле… Потому что механизмы памяти вечны, и этот щелчок ключа в замке зажигания «фиатика» панны Цивле — словно вкус пирожного «мадлен» у Пруста. И вот уже слышится звук другого мотора — Кароль, дедушка Павла, заводит свой изысканный, еще довоенный «мерседес». За рулем в этом неторопливом путешествии — сама память. Дедушка и бабушка Павла, тот «мерседес-бенц», тени тех мест — Трускавца, Мосцице, Дунайца, Львова — и та, растоптавшая мироздание война. А вот еще один автомобиль, точно такой же. Отец Павла, его «мерседес» и его поездки по перекрашенной в красный цвет реальности послевоенной Польши. И наконец — занятия Павла в автошколе, его странствия по сегодняшнему Гданьску, оживляемые теми поездками, «фиатик» панны Цивле, окрыленный прежними «мерседесами», словом, наше «здесь и сейчас», словно бы окутанное ни о чем не забывающими фразами Хюлле. Но и это еще не все: над повестью царит тень Грабала, тень его виражей по Праге, когда он дарил инструктору по вождению мотоцикла небывалые истории, сплетая повествование, которому не было конца и которое каким-то непостижимым образом согревало зябкую холодность бытия. Есть у Грабала такой рассказ, с его неизменной гипнотической болтовней, позволяющей, как и любой текст чешского прозаика, словно по мостику, перейти отсюда — туда, из сегодня — во вчера, из вчера — в сегодня.
На лицах фраз Хюлле (да-да, любая удачная фраза имеет лицо) блуждает едва уловимая, горькая улыбка смирения. Хюлле известно: писать по-грабаловски — занятие бессмысленное, писать по-грабаловски можно лишь, переписывая Грабала. Остается только поклониться той потрясающей стилистической эпохе. Поклониться и повторить урок мастера. Грабал умел с нежностью наблюдать мир, полностью при этом осознавая, что истинная его природа нам недоступна, и мы можем лишь простукивать вещи при помощи слов, простукивать и согревать зябкую холодность бытия. Именно отсюда теплая тишина слов Хюлле. Да и к чему кричать? Тем более, обращаясь к себе самому? Этот усвоенный урок неповторимого грабаловского зрения — еще один источник смущающей интимности «Мерседеса…». Смущающей сегодня, в этом запыхавшемся «здесь и сейчас», плоском, словно блин, с маниакальным упорством требующего романа, наполненного сегодняшними реалиями, в этом «здесь и сейчас», где нет места ни для времени, ни для памяти о чем бы то ни было… где никто о ней и не вспоминает… Да, следует смутиться интимностью «Мерседеса». Прозы, которая, в сущности, не имеет ни начала, ни конца. Ведь разве финал повести Хюлле — не очередная удавшаяся попытка заговорить точку? «(…) когда я вернулся в Собутки (…) эта первая фраза сложилась сама собой, и вам она уже известна»: мир.
«Milý pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku, — писал я в полной тишине, никуда не торопясь». Да, теперь следует вернуться к началу. «(…) Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг, потому что, вспоминая (…)» Это следует прочесть еще раз. В полной тишине. Никуда не торопясь.
Павел ГловацкийПавел Хюлле
«Мерседес-Бенц»
Из писем к Грабалу
Туда ты и направишься прежде чем стихнет твое сердце
Юзеф Чехович. Скорбная элегияMilý pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku — Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг, потому что, вспоминая тот свой первый майский вечер, когда, перепуганный и не на шутку взволнованный, я впервые сел за руль «фиатика» панны Цивле, единственной инструкторши в фирме «Коррадо» (гарантируем водительские права по самым низким в городе ценам), единственной женщины в компании этих самоуверенных самцов — бывших гонщиков и виртуозов баранки… так вот, когда я пристегивался и под ее руководством регулировал зеркало заднего вида, чтобы в следующее мгновение на первой скорости тронуться по маленькой узкой улочке и тут же, не проехав и сорока метров, остановиться на перекрестке, где лишь крошечный просвет, подобно незримому воздушному коридору, между трамваями и безудержным грохотом грузовиков, вел к далекому противоположному берегу пекла центрального района; итак, когда я отправился в свое первое автомобильное путешествие, как всегда ощущая полную его бессмысленность, ибо все это пришло слишком поздно и не вовремя, прямо посреди перекрестка, между судорожно затормозившим, надрывавшимся от звона трамваем номер тринадцать и огромным рефрижератором, лишь чудом разминувшимся с «фиатиком» панны Цивле и оглушившим нас страшно басовитым и чудовищно громогласным, будто корабельная сирена, клаксоном; словом, застряв посреди всего этого кошмара, я сразу вспомнил вас и эти ваши чудесные, легчайшие, исполненные очарования уроки вождения мотоцикла — позади инструктор, впереди рельсы да влажная булыжная мостовая, а вы стремительно газуете на своей «Яве-250» и несетесь по пражским улицам и площадям, сперва вверх, к Градчанам, затем вниз, к Влтаве, и все время, не умолкая ни на минуту, будто вдохновленный неким мотодаймонионом, рассказываете инструктору о тех дивных автомобилях прошлого, на которых ваш отчим пережил столько потрясающих аварий, столкновений и катастроф; итак, когда водитель рефрижератора резко осадил свое многотонное чудовище, выскочил из кабины и, оставив машину посреди мостовой, ринулся к крошечному «фиатику» панны Цивле, грозя нам кулаком — точнее говоря, он лупил этим самым кулаком по собственной голове, рискуя в ярости нанести себе увечье; так вот, когда я разглядывал приникшую к окошку «фиата» его багровую от бешенства физиономию и, в том же окошке, еще одну, принадлежавшую вагоновожатому тринадцатого номера — он, как и шофер грузовика, покинул трамвай и примятых внезапным торможением пассажиров; в общем, когда я увидал за предусмотрительно поднятым панной Цивле стеклом эти лица, позади которых возникали все новые и новые, поскольку водители других машин, запертых остановившимися трамваем и рефрижератором, также побросали свои автомобили и помчались к нам, дабы выместить на маленьком «фиате» все свое раздражение по поводу пробок на дорогах, не отремонтированных мостов, дорожающего бензина и прочих напастей, которые обрушились на них почти сразу после падения коммунизма; словом, когда взгляды этих босховских персонажей буквально пригвоздили нас с инструкторшей к сиденьям ее ни за что не желавшего заводиться «фиатика», я совершенно невозмутимо произнес: — А знаете, с моей бабкой Марией, когда она в двадцать пятом году училась водить машину, приключилась похожая история, только ее «ситроен» застрял на железнодорожном переезде, а справа, то есть со стороны инструктора Чажастого, уже приближался из-за поворота курьерский «Вильно — Барановичи — Львов», и тогда, мгновенно оценив ситуацию, пан Чажастый воскликнул: — Панна Мария, выскакиваем сейчас же, или нам крышка, — и они выскочили, — продолжал я, — а курьерский, хоть и тормозил, рассыпая из-под колес снопы искр, все-таки протаранил этот великолепный автомобиль, и бабушка Мария с паном инструктором Чажастым стояли у переезда, глядя на вытаращенные и все более округлявшиеся глаза машиниста, который тщетно высматривал в куче жести, никеля, хрома, плюша, дерматина и битого стекла размозженную голову, отрезанные ноги, кепку водителя или, на худой конец, хоть одно пятнышко крови; и лишь переведя взгляд чуть дальше, бедняга увидал приветливо махавших ему бабушку Марию и пана инструктора Чажастого; и это была чудесная сцена, — я уже приближался к развязке, — ибо за их спиной, у дороги в чистом поле стояла часовенка Матери Божьей Неустанной Помощи, которую обступили совершавшие майское богослужение[2] деревенские бабы с детьми, другими словами, первый план с раздавленным «ситроеном» и сопевшим локомотивом плавно переходил во второй, в центре которого находился заламывавший руки машинист, а за ним расположились столь счастливо избежавшие гибели бабка Мария с паном инструктором Чажастым, и все это на фоне далеких холмов и часовенки Матери Божьей Неустанной Помощи у подножья Восточных Карпат. — Господи, какая прелесть, — панна Цивле осторожно пересаживалась, переползая через мои колени, а я, под ее попкой, аккуратно выполнял аналогичное движение, только в обратном направлении, — Господи, до чего вы здорово рассказываете, — продолжала она, проверяя передачу и зажигание, — странно, что не сработало параллельное управление… Да-а, очень любопытно, — мотор наконец завелся, и, грубо, презрительно, по-мужски показав окружившим машину водителям средний палец, она медленно тронулась, рассекая толпу зевак и виртуозно объезжая наших несостоявшихся палачей, сгрудившихся в единый монолит и жаждавших линчевать нас прямо посреди этого кошмарного перекрестка, первой моей автомобильной Голгофы. Так вот, дорогой пан Богумил, в тот самый момент, когда панна Цивле своим удивительным, чуть звенящим голосом произнесла: — Господи, до чего вы здорово рассказываете, — у меня уже вертелось на языке: — Да что я, вы лучше почитайте «Вечерние занятия в автошколе», вот где настоящие истории, которые на сон грядущий или перед выездом с клиентом на городские улицы должен припоминать каждый инструктор, вот кто достиг восхитительного мотолиризма, вот кому удалось воплотить платоновскую идею уз, связующих педагога и ученика, — не простое натаскивание, банальный контроль, заурядное обучение, но одаривание друг друга чудесными рассказами, это причащение словом, объединяющее людей вне зависимости от пола, политических взглядов и происхождения, — но, увы, пан Богумил, ничего этого я не сказал, ибо глаза у меня полезли на лоб, душа ушла в пятки, а язык присох к нёбу, словно на третий день кашубской свадьбы, когда я увидал, как панна Цивле резко давит на педаль и, подобно заправскому слаломисту, скользит меж разъяренных водителей, как она расталкивает толпу квадратным передком своего «фиатика», а затем, буквально в последнюю секунду, ныряет в узкое горлышко между только что тронувшимся трамваем и медленно движущимся рефрижератором; ах, как жаль, дорогой пан Богумил, что вам не довелось увидеть всего этого — победы юной девушки с ее маленьким «фиатом» над стаей орущих водителей и парочкой грозных мачо — вагоновожатым тринадцатого номера и шофером грузовика, которые, ясное дело, просто взбесились, увидав, как автомобильчик маневрирует перед самым их носом, совершая рискованный прорыв меж Сциллой трамвая и Харибдой рефрижератора, это, пан Богумил, и в самом деле было нечто фантастическое, триумф интеллекта над массой, ироническая насмешка над слепым и глухим раздражением, ловкая оплеуха в исполнении панны Цивле и ее ученика: тра-ля-ля, бум, пам-парам, поцелуйте нас в задницу, придурки. — Господи Иисусе, — шепнул я, — ну вы и ас, я просто сражен наповал. — Да ладно вам! — звонко рассмеялась она. — Мне никогда так не выучиться, — я сглотнул слюну, — никогда с вами не сравниться, хоть наизнанку вывернись. — Ничего, не переживайте, — откликнулась панна Цивле, — встречала я таких, как вы, в тихом омуте черти водятся, верно? — и пристально поглядела на меня своими серыми глазами, — но вы дорасскажите про эту свою бабку Марию — меня, собственно, интересуют раздавленный «ситроен» и поврежденный локомотив, скажите, была ли машина застрахована и получил ли инструктор Чажастый какую-нибудь компенсацию, потому что по поводу пострадавшего локомотива голова болела скорее у руководства железной дороги, так ведь? — она вновь посмотрела на меня, и этот взгляд был еще более удивителен, чем ее странная фамилия. — Вот именно, что нет, — возразил я, — все получилось совсем не так, как вы думаете: в те времена машина обычно принадлежала самому клиенту, то есть, я имею в виду, ученику, а инструктора нанимали, словно учителя танцев или настройщика фортепиано; в условленный час пан Чажастый подъезжал к дому клиента на своем велосипеде, расстегивал булавку, которой обычно закалывал штанину у лодыжки, следует уточнить, что это была красивая серебряная булавка с крошечным бриллиантиком, и пап Чажастый тут же втыкал ее в английский галстук, затем поправлял фуражку, а порой еще и манжету сорочки и направлялся к подъезду или садовой калитке, поглядывая на часы и проверяя, не приехал ли он минутой раньше, а если так, то замедлял шаг, ибо в те времена весьма дурным тоном считалось опоздать, однако куда худшим — «переспешить», как говорили во Львове; итак — перейдем к существу дела: «ситроен» этот, видите ли, принадлежал моей бабке Марии — подарок дедушки Кароля, тогда еще ходившего в женихах и заканчивавшего Берлинский университет, а поскольку застраховать автомобиль бабушка забыла, то пан Чажастый, стоя у переезда, очень переживал: — Что же теперь панна Мария скажет молодому человеку, быть может, лучше послать письмо, только ни в коем случае не депешу, ибо депеша никогда до добра не доводит, тут и до разрыва помолвки недалеко, а ведь этот пан инженер Кароль такая выгодная партия, — твердил инструктор; тем временем пути очистили от останков автомобиля, и машинист принялся внимательно осматривать свой локомотив — сначала буфера, затем фары и, наконец, заглянул под передние колеса и ощупал поршни, но нигде не обнаружил следов столкновения — ни единой борозды или хоть царапинки — и пришел от этого в полное отчаяние: кто же в дирекции поверит его рассказам, будто столь значительное опоздание вызвано тем, что он протаранил французский автомобиль, кто захочет принять его слова на веру, если доказательства напрочь отсутствуют, пусть даже случившееся подтвердят проводники или какая-нибудь важная шишка из числа пассажиров, начальство все равно останется при своем мнении и все равно лишит его премии или, хуже того, понизит в должности, и никогда больше — на этом месте машинист чуть не заплакал — он не поведет курьерский «Вильно — Львов» или sleeping[3] «Львов — Варшава — Познань — Берлин»; к счастью, однако, — мы с панной Цивле стояли на светофоре, и я видел, что рассказ мой доставляет ей истинное наслаждение, ибо она совершенно позабыла, что за рулем следует сидеть мне, — к счастью, однако, — продолжал я, — в том же поезде, первым классом, ехал мистер Генри Ллойд-Джонс, репортер лондонской «Таймс», которого командировали в район Восточной Малопольши собирать материалы о гуцулах; так вот, Ллойд-Джонс этот первым выскочил из вагона и немедленно принялся за работу: — That’s terrific[4], — бормотал он, фотографируя останки французского автомобиля, — it looks like Waterloo[5], — удовлетворенно повторял журналист, нацеливая объектив на покоившуюся в луже эмблему «ситроена», — absolutely amazing[6], — хихикал он, запечатлевая польский локомотив, который позже в своем репортаже уподобил славянскому Веллингтону. — И вот, — рассказывал я панне Цивле, — представьте себе, что благодаря этим фотографиям и статье в «Таймс» под названием «Everyone was deeply touched»[7] или что-то в этом роде, за опоздание наш машинист получил никакой не выговор, а, напротив, золотые часы и грамоту, а бабке Марии, несмотря на то, что автомобиль, как я уже говорил, застрахован не был, мсье Россе, представитель фирмы «Ситроен» во всей Восточной Европе, уже через несколько дней вручил ключи от новой машины. — Нет, не может быть! — воскликнула панна Цивле, взглянув в зеркало, — золотые часы и новый «ситроен»? Да ведь такой автомобиль наверняка стоил кучу денег, небось, еще больше, чем теперь. — Верно, — согласился я, — но всему виной англосаксонская пресса, уже в ту пору сила нешуточная. Напечатай фотографии жалких останков «ситроена» и целого-невредимого локомотива, к примеру, «Курьер львовски» или «Гонец Всходней Малопольски», опиши все, как было, скажем, «Илюстрованы курьер цодзенны», пусть бы даже репортаж сопровождался снимками с места происшествия, ни одна собака бы не поверила: — Грош цена этим байкам, — в один голос твердили бы читатели, — каким же, интересно, чудом, — гоготали бы они, — на локомотиве не осталось ни царапины, да еще это пресловутое везение, благодаря которому парочка якобы успела вовремя выскочить из лимузина, ну уж нет, нас на такой бездарной мякине не проведешь, это же чушь на постном масле, будто барышню с ее инструктором спасла Матерь Божья, нечего нам тут припутывать религию к сенсации или, хуже того, к рекламе! — Но когда статья спустя несколько дней появилась на страницах «Таймс», реакция и последствия оказались совершенно иного рода. Сперва в Хшанов позвонил мистер Уиллман Кокс из Лондона, заявивший: — Дорогой пан директор Зелинский, позвольте заказать вашей фабрике пятнадцать локомотивов, это для начала, а вообще-то, признаюсь вам по секрету, с подобной ситуацией я сталкиваюсь впервые за все время руководства «Бритиш рейлвейз» — звонят самые обыкновенные люди и орут в трубку: — Отчего у нас нет таких локомотивов? Отчего на родине Ватта и Стивенсона не производят такое чудо? Мы требуем, чтобы наши поезда обслуживались только этими машинами и никакими другими. — Но и это еще не все, дорогой пан директор Зелинский, — вещал президент «Бритиш рейлвейз», — вчера, представьте себе, я имел беседу на Даунинг-стрит, и личный секретарь господина премьера любезно информировал меня, что фотографию вашего локомотива, распоровшего этого французского уродца, эту их республиканскую жестянку из-под сардин, так вот, снимок весьма удовлетворенно рассматривали господин премьер с наследником трона, принцем Уэльским, чье Высочество соблаговолило поинтересоваться сальдо торгового оборота с вашей героической страной, и это побудило министра путей сообщения расспросить меня о вашей фабрике; я ответил, что мы давно уже сотрудничаем, и единственное, что связывает мне руки, это наши таможенные пошлины на паровозы, семафоры et cetera[8], а министр ответил: — Поставим вопрос на заседании палаты общин, — per saldo[9] спешу довести до вашего сведения, дорогой пан директор Зелинский, что мы официально заказываем пятнадцать паровозов, причем без всяких обкаток, а если вы окажете нам любезность и доверите посреднические услуги — понимаю, понимаю, это вопрос весьма деликатный, — так вот, в качестве ваших посредников мы можем продать двадцать штук в Австралию, тридцать две в Индию, семь на Цейлон, восемь в Бантустан и один на Фолкленды — один, потому что там мы пока еще только проектируем первую железную дорогу. — Перестаньте, бога ради, — отмахнулась панна Цивле, отпустив на мгновение руль, — перестаньте, или мы сейчас окажемся на тротуаре. Ну, а «ситроен»? — поинтересовалась она тут же, включая правый поворотник и медленно, через трамвайные пути, въезжая на учебную площадку. — Как же обстояло дело с новым «ситроеном»? — Сперва часы, — заметил я, чувствуя приближение критического момента, — золотая «Омега» машиниста! Итак, представьте, сразу после звонка мистера Кокса директору хшановских паровозных заводов пошли пересуды: машиниста, мол, надо бы вознаградить — как это понимать, на что это вообще похоже, почему такой достойный человек остался без премии? — Подобное возможно только у нас, где в расчет берутся одни лишь протекции и знакомства, а не честный труд; словом, узнав о негласном распоряжении via[10] Варшавы, Львовская дирекция железных дорог готова была вызвать виновника суеты немедленно, хотя бы и телеграфом, прямо с трассы, но тут оказалось, что машинист Гнатюк, оформив еще в тот драматический день очередной двухнедельный отпуск, бесследно исчез, и беднягу, пожалуй, даже оставили бы в покое, кабы не звонки — сперва из Варшавской дирекции железных дорог, потом из министерства путей сообщения, затем из министерства промышленности и, наконец, из министерства внутренних дел. — Где этот отважный машинист?! — гремело в трубке, — он сделал для нас больше, чем дюжина торговых агентов на местах, — орало начальство, — неужели вы там, в своем Львове, не в состоянии выяснить, где, черт возьми, проводит отпуск служащий государственной фирмы стратегического, как-никак, значения?! В Познанском воеводстве такое просто немыслимо, — следовал, наконец, далеко идущий вывод, — может, и району Восточной Малопольши пора задуматься о неизбежности реформ, ведь совершенно очевидно, что государственное мышление воцарилось уже повсюду, кроме Львова, а впрочем, вы, коллеги, может, даже не слыхали, что война закончилась, может, у вас там все еще висят портреты Франца-Иосифа в коронационном облачении, может, и время на ваших станционных часах стоит на месте, если вы вообще осознаете, что такое время для нашей польской экономики! — В этих словах звучала уже не просто угроза, — толковал я панне Цивле, которая как раз остановила свой «фиатик» между двумя полосатыми резиновыми столбиками, — тут прямо-таки пахло грядущей революцией, а вы, вероятно, знаете, что революция отнюдь не являлась фирменным галицийским блюдом, кроме разве что той единственной, когда крестьяне жгли поместья и резали своих господ — пилами, медленно и методично, в отместку за все годы нищеты и унижения — да, ничего в том прекрасном городе не боялись больше, чем предвестников перемен, ибо переменам свойственно все хорошее сперва ухудшить, а затем и вовсе обратить в свою противоположность — так полагали во Львове и его окрестностях, во всяком случае, на протяжении последних пятидесяти лет существования Австро-Венгерской монархии, — а потому за дело взялись не только железнодорожные службы, но и секретные агенты, постовые, комиссары, полицейские, но все было тщетно — в маленьком домишке на Замарстынове, где среди яблонь, вишен и черешен, подпорок для фасоли, метелок кукурузы, побегов хмеля и виноградных лоз проживал с женой и двумя детьми машинист Гнатюк, его и духу не осталось. — Та боже ж ты мой, господа, с меня-то какой спрос? — заламывала руки Гнатюкова, — он ведь не на службе, мне и самой любопытно, где этот олух болтается, уж я бы ему кренделей навешала, а так что ж? Пришел и говорит: — «Все, мол, конец», — потом взял двести злотых, и только мы его и видели, вот это-то и беда, потому что он ведь почти совсем не пьет, а с такого расстройства, небось, накупил на все деньги водки с колбасой да отправился в горы, как бывало в холостяцкие времена, очень уж он любил в одиночку лазить по перевалу, так что ищите его где-нибудь в коломыйском шинке или в Кутах; тут, гневно сдвинув брови, хозяйку прервал пан комиссар Лампарский: — Пани Гнатюк, вы хотите сказать, что не знаете, где проводит отпуск ваш собственный муж? Вы шутите? Или не понимаете, что время не терпит? Что это дело государственной важности? — после чего белая как мел супруга машиниста опустилась на стул и прошептала: — Боже ж ты мой, господа, да ведь он ни с политикой, ни с листовками этими, от коммунистов бежит как черт от ладана, да что же это, — тут она с неожиданной гордостью вскинула голову и возвысила голос, — за ним ведь никакого криминала, хоть бы раз на службу опоздал, ну чего вам тут искать, в нашем-то доме? — Панна Цивле, хоть и веселилась от души, вспомнила наконец об истинной цели наших занятий: — Ну ладно, садитесь за руль, — она вышла из «фиата», — сперва зеркала, затем пристегнуться, хорошо, теперь трогаемся… и, пожалуйста, «коридор»! — Почему для первого занятия она выбрала самое трудное упражнение? Это неизвестно и по сей день. Быть может, ей захотелось поставить на место предприимчивого нахала, который вместо того чтобы послушно выполнять команды, пытается отделаться байками полувековой давности, а впрочем, возможно, ни о чем таком она и не думала, но факт остается фактом: мокрый как мышь, я все не мог унять дрожь в руках, а по количеству сбитых резиновых столбиков, будь они кеглями, претендовал бы на звание чемпиона мира. Вы себе и не представляете, дорогой пан Богумил, что это такое — добрых сорок метров ползти задним ходом по изогнутому узкому коридору, ежесекундно нарушая заданную траекторию, ежесекундно задевая столбики то левым, то правым боком, да еще мотор постоянно глохнет; ведь эти ваши вечерние занятия на мотоцикле «Ява-250», когда с инструктором Фоштиком вы гоняли по Виноградам или Жижкову, а золотые кленовые листья поэтично опускались в воды Влтавы и проплывали под Карловым мостом, эти ваши занятия по вождению для начинающих были подобны минутам лирического отдохновения, не то что моя улица Картуская, до неприличия забитая машинами, или эта учебная площадка на задах винно-водочного магазина, где мы, ученики, были вроде актеров, репетирующих авангардную пьесу перед терпеливыми зрителями. — Нет, так дело не пойдет, — воскликнула наконец панна Цивле, — стоит вам замолчать, мы тут же налетаем на столбик или глохнет двигатель, пожалуйста, осторожно нажимайте на газ, медленно отпускайте сцепление, а угол поворота не меняйте, и машина покатится по кривой сама, вот так, уже совсем хорошо, не спешите, потихонечку, — она касалась моих ладоней своими, легонько прижимая их к рулю, — а вот теперь, будьте добры, помолчите. — Ну ладно, — прошептал я, — а вам не кажется, что раз уж надо непременно отрабатывать этот чертов «коридор», то, может, хотя бы поедем вперед, а не назад, ни одна змея ведь не станет ползти задом, это, милая панна Цивле, противоречит законам природы… — Дорогой пан Богумил, я никогда не забуду вашего предпоследнего письма, того места, где говорится, что истинный знаток и художник классифицирует женщин не согласно размерам бюста и ягодиц, а по ладоням, и в данном случае это было именно так, ибо панна Цивле в своих темных брюках и короткой кожаной куртке не относилась ни к «сиськастым», по вашему прелестному определению, ни тем более к «жопастым», нет, панна Цивле во всех отношениях была скорее худа и не принадлежала к тому типу девушек, при виде которых водители грузовиков врезаются носом в клаксон, панна Цивле, дорогой пан Богумил, на первый взгляд, являла собой образец так называемого «унисекса», но, к счастью, прогресс еще не оставил на ней своих необратимых следов, другими словами, голову инструкторши украшал не жесткий ежик, а чудесные, собранные в «хвостик» каштановые волосы, ее юную грудь прикрывала не фланелевая клетчатая рубашка, а шелковая блузка, и, наконец, на ногах вместо тяжелых ботинок-«тракторов» красовались изящные лодочки (вспомним Ежи Пильха[11]), которые по изысканности и прелести форм почти не уступали длинным пальцам, прижимавшим мои ладони к баранке «фиата», что, кстати, было единственной причиной того, что в конце концов я все же добрался задним ходом до финиша этого кошмарного коридора, а толкавшиеся на задворках винно-водочного магазина алкаши и забулдыги все как один аплодировали мне из-за огромных лопухов, прикрывавших обнаженный срам вонючей помойки. — Так что, нашли этого машиниста? — панна Цивле вынула из портсигара готовую самокрутку. — Долго он еще прятался? — Да он и не прятался вовсе, — я с некоторым удивлением взял протянутую мне папиросу, которой она успела всего раз затянуться, — он просто пребывал в отчаянии и одиночестве, ибо полагал, что его великолепная карьера разрушена, а профессиональная жизнь кончена, что с высшей ступени лестницы Иакова, иначе говоря, от самых врат железнодорожного рая он падет на самое дно какой-нибудь ремонтной мастерской, а потому снял у Айзенштока, что держал корчму в Жиравце, комнату на втором этаже; сидя безвылазно в этой каморке, машинист Гнатюк и плел черную паутину своих мыслей, что, мол, от поляков можно ожидать чего угодно, ибо, как давным-давно написал Федор Михайлович Достоевский, они хитры и коварны, сперва прикинутся приятелями, похлопают по плечу, шепнут пару любезных слов, и тут же высмеют твою православную веру и непривычный выговор, горько размышлял машинист Гнатюк в трактире Айзенштока, и размышлять бы ему так вплоть до окончания законного отпуска, кабы не старший полицейский Гвоздь, который, попивая в трактире лимонад, случайно — через приоткрытую дверь — подслушал разговор Гнатюка с Айзенштоком; короче говоря, — я вернул панне Цивле самокрутку, — он задержал беглеца и доставил его в дирекцию железных дорог, где машинисту вручили эти самые золотые часы и тысячу пятьсот злотых премии из специального фонда хшановского завода локомотивов. — Да, дорогой пан Богумил, я был вынужден на мгновение прервать это повествование, потому что от табака панны Цивле у меня закружилась голова, таким он оказался крепким и ароматным, но поскольку мы вновь уселись в «фиат», то стоило мне на первой скорости благополучно покинуть учебную площадку, она спросила: — Ну и что там было с новым «ситроеном» вашей бабушки Марии? — О, тут получился сюрприз так сюрприз, — мне чудом удалось свернуть налево, на Картускую и без скрежета включить вторую передачу, — с момента появления статьи в «Таймс» прошло всего несколько дней, и вот вечером в бабушкиной квартире раздался телефонный звонок — междугородный, из Берлина; трубку взял отец, то есть мой прадед Тадеуш, который сразу пришел в страшное волнение, поскольку услыхал голос будущего зятя, выкрикивавшего что-то кошмарное насчет похорон Марии, о которых, мол, будущий тесть даже не удосужился сообщить несостоявшемуся зятю; они то и дело перебивали друг друга, так что им никак не удавалось ни прервать, ни закончить этот разговор, ибо, да будет вам известно, — пояснил я, — репортаж в газете «Таймс», что была куплена в табачной лавке на Потсдамской площади, заставил жениха Кароля предположить самое ужасное — и не последнюю, надо заметить, роль сыграл здесь журналист, мистер Ллойд-Джонс, который, живописуя расплющенную польским локомотивом французскую жестянку, ни словом не обмолвился о чудесном спасении — молитвами Матери Божьей Неустанной Помощи — инструктора с ученицей; другими словами, Кароль решил, что лишился невесты. Представьте себе, — продолжал я, проскочив на красный свет, — они никак не могли договориться, потому что когда тесть во Львове кричал в трубку: — Да Марыся-то жива-здорова! — зять в Берлине орал, что держит в руках страницу «Таймс» с фоторепортажем и очень просит не обнадеживать его понапрасну, ибо готов к самому худшему. — Господи Иисусе, — смеялась панна Цивле, — неужели нельзя было позвать к телефону вашу бабушку? — В том-то все и дело, — я робко прибавил газу на второй передаче, — бабушка стояла у окна и, услыхав, как они ругаются, именно это и пыталась жестами предложить отцу, но недолго, потому что в ту самую минуту, когда будущий тесть закричал: — Да Марыся-то жива! — заметила, как по улице Уейского медленно движется новехонький «ситроен», как он останавливается перед их парадным, а появившийся из него мсье Россе, представитель фирмы «Ситроен» на территории всей юго-восточной Польши, принимается сверять номер дома с записанным на листочке адресом. И когда мой прадед Тадеуш, решив, наконец, разрубить гордиев узел сей беседы, крикнул будущему зятю: — Ладно, передаю трубку Марысе! — дочь из гостиной уже исчезла, отправившись, видимо, в кабинет, принимать нежданного гостя, — и будущий тесть несколько озадаченно произнес: — Вот только что была здесь, но сейчас ее нет, — а будущий зять заорал: — Сколько можно лгать, почему вы скрываете от меня правду?! — И в сердцах швырнул трубку, так что изумленный взгляд немецкой телефонистки проводил его до самых дверей стеклянной будки на Потсдамской площади. Вот и представьте себе эту сцену, — я включил правый поворотник, — прадед Тадеуш стоит с трубкой в руке, не в силах поверить, что разговор окончен, как утверждает голос немецкой телефонистки, бабка Мария стоит в кабинете перед мсье Россе, не в силах поверить, будто французская фирма готова преподнести ей в подарок новый автомобиль в обмен на короткое интервью для газеты «Монд», а дедушка Кароль стоит в Берлине, посреди Потсдамской площади, со смятой страничкой из «Таймс», не в силах поверить словам несостоявшегося, как он считал в то мгновение, тестя. — Теперь придется подождать, — спокойно заметила панна Цивле, — вы не перестроились в правый ряд, мне следовало предупредить, но вас разве прервешь? — И в самом деле, за кормой «фиата» росла пробка, но по правой полосе непрерывным потоком двигались машины, и никто не собирался пропускать нас с Картуской на улицу Совинского, где находилась фирма «Коррадо», а потому, несмотря на гудки и явно недоброжелательные жесты водителей, мне удалось кое-как дорассказать историю нового «ситроена», который и вправду достался бабке Марии даром, нельзя ведь считать оплатой коротенькое интервью, которое она дала на следующий день журналисту «Монд» и в котором заявила, что наверняка погибла бы, окажись на железнодорожном переезде в другой машине, ибо ни чешская «татра», ни немецкий «хорьх», ни польский «фиат», ни тем более американский «бьюик» не снабжены столь легко открывающимися дверцами, которые позволяют благополучно покинуть машину за несколько секунд до столкновения, дверцами, которые спасут вам жизнь в любой автокатастрофе; здесь, по указке журналиста, бабушка Мария поведала, что ей снятся кошмары — будто она горит, запертая в американском «бьюике», — так вот, если бы не дверцы, специально спроектированные на заводе «Ситроен» инженерами, которым под силу предвидеть любую опасность, вся эта история, столь тенденциозно описанная репортером «Таймс», приняла бы просто-таки трагический оборот, и, позируя рядом с новеньким автомобилем в сиянии магниевых вспышек, бабка Мария могла улыбнуться и радостно признаться: путешествуя на «ситроене», она чувствует себя абсолютно уверенно и забывает о выбоинах и ухабах на дороге, крестьянских повозках, наводнениях, ураганах, а также хшановских локомотивах. — Я наблюдал, как панна Цивле возится с дверцей своего «фиата», как в конце концов открывает ее, довольно-таки судорожно, ибо, хотя справа на нас надвигался не курьерский «Вильно — Барановичи — Львов» под управлением машиниста Гнатюка, а одни лишь автомобили, но все равно требовалось немалое мужество, чтобы выйти на правую полосу, жестом полицейского остановить поток машин и подать мне знак, дабы, воспользовавшись этой короткой передышкой, я быстро свернул на улицу Совинского, что было исполнено почти безупречно — почти, потому что когда «фиатик» уже спокойно катил по узенькой улочке к фирме «Коррадо», я, увидав в зеркале приближавшуюся ко мне с улыбкой