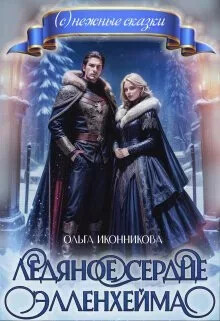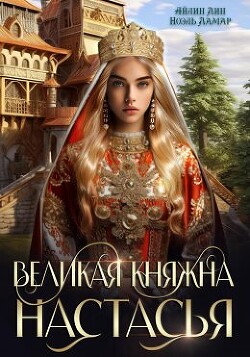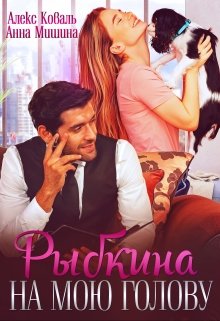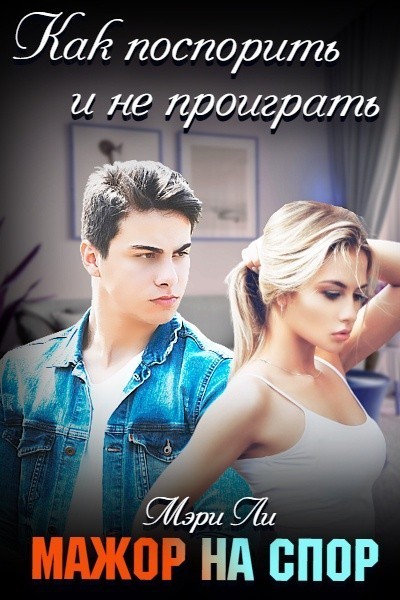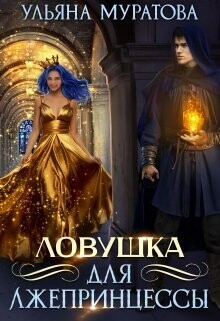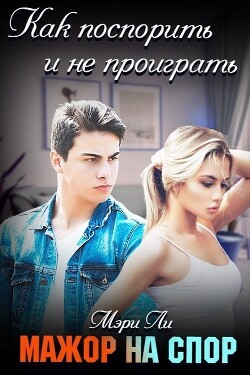Франсуаза Саган - Синяки на душе

Помощь проекту
Синяки на душе читать книгу онлайн
Франсуаза Саган
Синяки на душе
Март 71-го.
Мне хочется написать: «Себастьян поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух». Занятно обратиться сейчас к персонажам десятилетней давности:
Себастьяну и его сестре Элеоноре, людям, конечно, из театрального спектакля, но театр этот веселый, мой, постановки тут вечно проваливаются, но они всегда бесшабашны, бесстыдны и целомудренны, и напрасно пытаются «подделаться» под Мориса Саша в нашем безнадежно уставшем от своей обыденности Париже. К несчастью, обыденность Парижа, а может, и моя собственная, подавила во мне безрассудные желания, и теперь я с усилием пытаюсь вспомнить, когда и как «это» началось. «Это» — значит отказ от желаний, скука, размытые очертания жизни — все то, что привело меня к существованию, по сей день и по весьма веским причинам всегда меня привлекавшему. Более того. Это, я думаю, началось в 69-м, а из событий 68-го, из всех этих порывов и провалов вряд ли, увы, вышел какой-нибудь толк. И дело не в возрасте: мне тридцать пять, зубы у меня в порядке, И если мне кто-то нравится, обычно все удается. Просто я больше ничего не хочу. Я бы хотела полюбить и даже страдать, и даже трепетать у телефона. Или ставить десять раз подряд одну и ту же пластинку, вдыхая воздух разбудившего меня утра, воздух, Несущий естественное благословение природы, такой мне знакомый. «Я перестал чувствовать вкус воды, а потом вкус победы». Кажется, так поет Брель. Так или иначе, больше этого нет, я даже не знаю, понесу эти записки издателю или нет. Это ведь не литература и не исповедь души — просто некая особа стучит на машинке, потому что боится самой себя и машинки, рассветов и вечеров и пр. И других. Это плохо, когда есть страх, даже стыдно, и раньше я его не знала. Вот и все. И то, что это «все» — ужасно.
И такова сейчас не только я, весной 71-го, в Париже. Я только и вижу, только и слышу вокруг себя людей нерешительных, перепуганных. Быть может, смерть бродит вокруг нас, и мы улавливаем ее и чувствуем себя несчастными, неизвестно почему. Ибо в конце концов, не в этом дело. Смерть — я не говорю о физической смерти — представляется мне в черном бархате, в перчатках, и в любом случае чем-то непоправимым, окончательным. Порой окончательность уходит, как было в пятнадцать лет. К несчастью, я хорошо знаю, какая это радость — жить, и потому ощущение окончательности возникает во мне мимоходом, как минутная слабость, и я буквально надрываюсь, чтобы захотеть этой мимолетности. Из гордости, может быть, да еще от страха. Собственная смерть есть наименьшее зло.
Но что повергает в ужас: бесконечное насилие повсюду, непонимание, злоба, часто оправданная, одиночество, ощущение стремительно надвигающейся беды. Молодые люди, которые ни на секунду не потерпят даже мысли — если она вообще придет им в голову — потерять хоть один день своей юности, и люди «зрелые», которые изо всех сил стараются оттянуть старость, отбиваясь от нее уже после тридцати. Женщины, которые хотят быть наравне с мужчинами, убедительные доводы и добрая воля одних, безжалостный комизм других — все это свойственно людям, но подчинено Богу, которого они хотят отринуть, и имя которому— Время. Но кто читает Пруста?
И новый язык, и неспособность понять друг друга, и молоко человеческой нежности, возникающей порой. Редко. А иногда чье-нибудь восхитительное лицо. И безумная жизнь. Она всегда виделась мне неистовым зверем, обезумевшей матерью. Как Блоди Мама или Джокаст и Леа, и, конечно, и прежде всего — Медея. Мы брошены сюда, на эту планету, которая не претендует даже — о, какое оскорбление — на исключительность; когда я говорю «оскорбление», я имею в виду именно это, потому что единственное место, где может быть жизнь, мысль, музыка, история — у нас, и только у нас. Разве это может быть у других? Разве у нашей общей матери — жизни, этой лживой любовницы, были еще дети? Когда человек, люди с корабля «Аполлон», например, бросаются в космическое пространство, то вовсе не для того, чтобы найти братьев по разуму, я убеждена в этом. Ему нужно удостовериться в том, что их нет, что эти несчастные семьдесят лет жизни (или сколько ему дано) принадлежат ему одному. Он страдает от предполагаемого первенства марсиан. А почему считается, что марсиане безобразны и малы ростом? Потому что мы ревнивы. Или еще: «Ведь правда, что на Луне нет травы? „ „Нет, трава есть только у нас“. И вся эта славная земля,. полная национализма и страха, одинаково радостно и успокаивается и терзает себя и когда зарастает травой, и когда ее заливают кровью, и в том и в другом случае повинуясь нелепости существования. И все эти кретины, которые заботятся о „народе“, трогательно неловкие в своих левацких сюртуках, уже давно израсходовавшие все, что им было дано, говорят нам о «народе“, нам, которые ненавидят правых и защищаются от левых, стараясь не допустить, чтобы злой безумец (или тихий) не превратил бы тот самый свой жалкий сюртук и вовсе в лохмотья, непригодные для употребления. Народ.
Не дано понять, что это слово даже оскорбительно, что есть какой-то человек и еще человек, есть женщина, ребенок и еще какой-то человек, что каждый не похож на другого и понятен во всех своих притязаниях и что в большинстве случаев, вопреки расхожему представлению, этот каждый не может ни понять другого, ни увидеть его, ни прочесть. Сартр, вскарабкавшись на бочку, быть может, понимал это, хотя был честен и неловок. А Диоген, сидя внутри нее, говорил с каждым. Оба — тонко чувствующие люди, наделенные умом, на первый взгляд, высмеивающие все и вся. Они смеются и над собой. Это здорово — в наше время быть смешным, «осмеянным» чьим-то острым умом. Здорово и беспокойно — потому что здорово. Ни Стендаль, ни Бальзак такого бы не потерпели. (В своих произведениях, конечно. ) Единственным пророком в этом смысле был Достоевский, по крайней мере, для меня.
Я рассуждаю о жизни вместо того, чтобы говорить о Себастьяне Ван Милеме, шведском аристократе, очень веселом и очень несчастном. Но что я знаю об этом? Когда он появится снова, я расскажу о нем подробнее. Это моя задача, я пишу, я люблю это и хорошо свою задачу вижу. Мне кажется, жизнь похожа на мать-самку, которая берет своих детей за шиворот, чтобы вывести их на прогулку, как делают догадливые и заботливые кошки (такая позиция обеспечит вам довольно удобное существование). Или поперек спины. Или за лапу. Именно в этом неустойчивом положении, желая падения как передышки, находится изрядное число наших современников. И забудем безумства любви, жизненные ловушки, великие страдания и кое-каких поэтов. Забудем их. Конечно, это верх глупости, но я никогда не забуду поэзию; я никогда не любила ее так, как сейчас, и никогда не умела писать стихи.
Я запросто могла бы вызвать в памяти запах травы и бросить корзинку из пахучей соломы в этот роман, откровенно петляя какой-нибудь главой. Теперь для меня самое важное — назвать. Как только я погружаюсь в запах травы, опускаю в него лицо, я тут же обязана назвать его: г-н запах травы. А море, сумасшедшее море, я тоже должна познакомить его с собой, вернее, представить своему телу: это твой большой друг — море. Оно узнало его, но не бросилось навстречу. Я — нежная мать, прогуливающая в Виши капризное дитя — собственное тело. «Поздоровайся с мадам Дюпон, которая была так добра с тобой в прошлом году (или десять лет назад), когда ты болела». А ребенок упирается. Отказывается он порой и от аромата любви, и от ее колдовских чар. И я в испуге отворачиваюсь от разноцветных реклам в газетах, где прозрачное море омывает красноватые утесы, где простираются безукоризненные пляжи за тысячу триста пятьдесят франков в оба конца. «О, пусть они едут туда, — вздыхает мое зачарованное тело, — пусть они все туда едут, пусть загорают и развлекаются в тех местах, которые так часто были для меня смыслом жизни, моей любовью, моей добычей. Пусть они берегут их. Да здравствуют Средиземноморские клубы. К черту море с тем же названием! Пусть оно резвится с юными завсегдатаями или со старыми, с туристами — бедное, безумное море! Я больше не буду его воспевать, я его забуду; впрочем, нет, однажды, в какой-нибудь подходящий день, в апреле например, я случайно поеду туда, рассеянно окуну в него ногу или руку, зябко поеживаясь. Оно и я, как много раз прежде… „ Наверное, грустно стареть: больше не узнавать своих. И что я скажу об этих многочисленных телах, которые шагают рядом с моим, через пятнадцать лет, с которыми засыпаю или время от времени оживляюсь и от которых теперь бегу, как будто я стала воплощением того, о чем говорит Элюар: «Худое, рвущееся ввысь тело, зверь, любимый в детстве, — это тело растерянной птицы“?
Себастьян поднимался по лестнице ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух. Шестой этаж был для него все-таки высоковат. И не потому, что ему мешал слишком большой вес, дело было в десяти тысячах сигарет, выкуренных давно и недавно, и десяти тысячах стаканов всяких напитков — их разнообразие и сейчас заставило его улыбнуться. И правда, в последние годы завелась привычка вспоминать напитки, а не женщин, как это было раньше. Был год коктейля «Негрони», соответствующий году Недды, год сухого «Мартини», соответствующий году Мариэллы Деллы, хоть это и длилось больше года. Год рома, в Бразилии, с Анной Марией. Как все это было весело, бог ты мой! В конечном счете, он не был ни ходоком, ни любителем выпить, просто его восхищало соединение вина и женщин. В любом случае господствующей величиной существования была его сестра Элеонора, она и только она, без вина и вместе со всем вином в мире. Во все времена жизнь без нее, вино без нее были все равно что пресная вода. В самом деле, куда удобнее, когда кто-то смотрит за тобой, даже если этот кто-то — что бы она там ни говорила — еще больший раб, чем ты сам. Время от времени она взбадривалась, выходила замуж, исчезала, и через несколько пуганых месяцев и многочисленных ссор, о которых она рассказывала не иначе, как по прошествии долгого времени и всегда весело смеясь, она возвращалась. Богатая или бедная, изнуренная или пышущая здоровьем, грустная или веселая, но всегда сумасбродная, несравненная, прекрасная Элеонора, его сестра, возвращалась к нему.