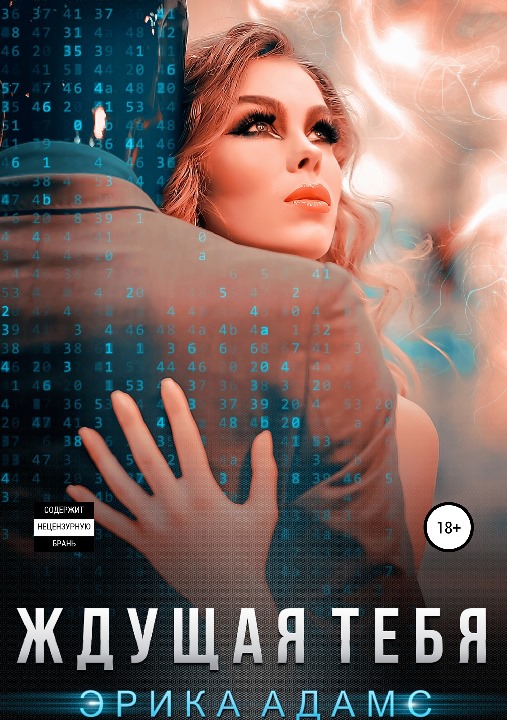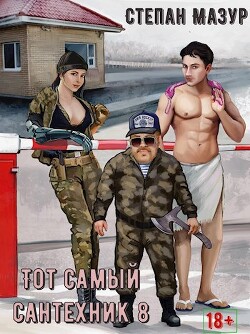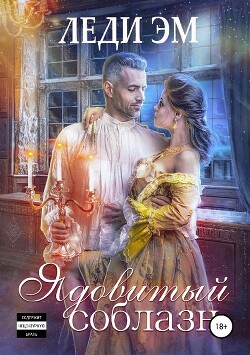Валерий Алексеев - Стеклянный крест

Помощь проекту
Стеклянный крест читать книгу онлайн
– Слишком долго рассказывать, – сухо ответил я.
Иван Данилович, должно быть, устал негодовать.
– Так много перемен? – с принужденной беспечностью спросил он. Что, реформация вылилась в крестьянские войны?
Я снова пробормотал нечто вроде: "Тут ведь как?"
– Ладно, успеется, – сказал Иван Данилович и живо поднялся. – Не стану более вас утомлять.
И порывисто, пружинистой юношеской походкой направился к дверям Но меня не обманула эта решительность, я предполагал, что так просто старик не уйдет, – и не ошибся.
– Да, кстати, – проговорил Иван Данилович, взявшись за ручку двери, обернулся, глядя при этом мимо меня, – чуть не забыл. Не найдется ли у вас свежей газетки? Понимаю, что не сегодняшней и даже не вчерашней, пусть хоть недельной давности. Скучно, знаете ли, без центральных убеждений.
Жадное нетерпение, прозвучавшее в его голосе, лучше всяких слов свидетельствовало, что только за этим он, собственно, и пришел. Мне не жалко было бы поделиться с ним чтивом, но, увы, старик явился не по адресу: я уже давно не читаю газет. Мне противны все эти скоротечные эпохи, судьбоносные для кого-то подвижки, мне чужда философия дискретной, прерывистой жизни. Я шкурой своей, на горбу своем ощутил (в восемнадцать, да, в восемнадцать), что жизнь моя (а другой у меня нет) – что жизнь моя органически неделима и что никакие ее перестройки не принесут мне избавления от меня самого. Но поди-ка объясни это старику. Бывший учитель бывшей истории, он всю жизнь доказывал противоположное: что главные события происходят не внутри человека, а вне его.
Я машинально оглядел комнату. Последним периодическим изданием, которое я держал в руках, был "Шпигель", на обложке которого изображен был Президент Союза в рубище, с огромной шляпой в протянутой руке и с невыразимой печалью в глазах: что-то я зачитывал оттуда на лекции, демонстрируя студентам извивы немецкого газетного языка.
– Да вот же он, вот! – нетерпеливо сказал Иван Данилович, указывая на подоконник, и я увидел там тот самый номер "Шпигеля", свернутый вдвое для удобства ношения в кармане плаща.
Я протянул его своему гостю – Иван Данилович схватил журнал с жадностью, как голодающий краюху хлеба. Трясущимися руками развернул, лицо его осветилось радостью – и тут же погасло. Некоторое время он смотрел на портрет, то приближая его к глазам, то отдаляя, потом на впалых щеках его проступил багровый румянец.
– Смеётесь, – проговорил он после долгой паузы, – издеваетесь надо мной. Ну, как говорится в наших краях, хоть шерсти пук, прошу прощения за прямоту.
И он снова взялся за ручку двери.
– Послушайте, – сказал я, решив пренебречь оскорблением, – вы сказали, что в каждом монастыре свой устав. А где мы, собственно, находимся?
Иван Данилович медленно, в два приема обернулся, и по губам его, тонким, сухим, так неприятно похожим на Анютины, проскользнула усмешка, которая показалась мне торжествующей.
– А у вас есть варианты? – спросил он.
– Как минимум, два, – ответил я. – Если я не у себя дома – значит, в лечебнице.
– "В лечебнице", – все еще усмехаясь, повторил Иван Данилович. – Бережно вы с собой обращаетесь. Между тем вы совершенно правы: это приют для душевнобольных.
Я пристально взглянул ему в глаза: нет, это была не шутка.
– Значит, и вы… – начал я, но старик не дал мне договорить.
– К сожалению, мы оба, – сказал он. – Честь имею.
3.
Оставшись один, я подошел к окну и долго стоял, глядя вниз и прислушиваясь к себе. Был тот морозный утренний час, когда снег скрипит лишь под ногами бегунов да собачников, когда водители внизу у подъездов только начинают разогревать свои застывшие за ночь движки. Впрочем, во дворе не видно было ни души: бегуны повывелись от холода, собачники – от голода, а машины стояли погребенные под сугробами. Странно, подумал я, откуда взялась такая снегота. Вчера (если только это было вчера) на улице было сыро и слякотно. И отчего все так мертво? Должна быть какая-то живность. Едва я успел об этом подумать, как над двором появилась ворона. Большая и хмурая, она летела наискосок через двор, размеренно взмахивая лохматыми крыльями, и, следя за ее целеустремленным полетом, я чувствовал, как мои подмышки щекочет мороз. "Кыш, глюк несчастный!" – сказал я шепотом. Ворона гордо, как кондор, легла на крыло, взмыла ввысь – и пропала. Отчего-то мне стало смешно. Я стоял у окна и смеялся, не боясь, что кто-нибудь увидит мои мелкие редкие зубы. Вообще-то таким, как я, нельзя смеяться, даже улыбаться нельзя: добрая улыбка на наших губах кажется людям гнусной, глупая – злобной, язвительная – страшной, как у самого сатаны. Вообразите, как убогий с репинской картины поворачивается к вам, и желтое лицо его расплывается в улыбке, открывающей некрасивые, как у меня, зубы.
Итак, мы у себя дома – и одновременно где-то еще. Мы – душевнобольные, для нас это состояние раздвоенности так же естественно, как жар и озноб, как радость и слезы. Превосходные слова: любвенависть, жарозноб. Я почувствовал, что начинаю мерзнуть. Все существо мое медленно, но уверенно наливалось привычным костистым уродством. Так по утрам воплощаются в камень, должно быть, чудища Нотр-Дама в Париже, где мне не довелось побывать – и вряд ли теперь доведется. В глазах у меня все плыло и зыбилось, мой нищий двор вращался, как промерзлая карусель, стены окрестных домов то сливались с блекло-розовым небом, то, проворачиваясь, проступали в белесой пустоте со всеми своими хамскими швами. Я протянул руки вперед: белые каемки нестриженых, но очень чистых ногтей, лиловая от холода кожа. Оконное стекло передо мною было как лед, из трещинки в правом нижнем углу пронзительно дуло. Мне ли не знать эту трещинку, сам надколол, застекляя. Старое стекло разбил мой приятель Гарик. Правда, то было на кухне, но где она, кухня моя, теперь, да и не все ли едино? Была уже глубокая ночь, Анюта устала и ушла к себе спать, я тоже держался на пределе сил, а Гарик только начинал входить в азарт пьянки. "Пойми, квазимодо, – нависая над столом и густо дыша мне в лицо табачным смрадом, гудел мой загульный приятель, – пустота – не вместилище, а форма материи, материя суть разновидность пустоты". Гарик обожал витиеватые обороты, хотя перевирал их самым невежественным образом и не терпел, когда его поправляли. "Есть, а не суть", – хотел сказать я, но Гарик меня перебил: "Захлопни свою черную пасть! Ты, монструоз, являешь собою лишь сгусток вакуума, только принявший такую гадкую форму. Взбесившийся вакуум, я доходчиво излагаю?" И он захохотал, довольный своей словесной находкой. Называя Гарика своим приятелем, я, конечно, упрощаю суть дела. У таких, как я, не бывает приятелей: со мной тяжело общаться, противно сидеть за одним столом. Даже если на меня не глядеть, все равно мой гнусавый приплюснутый голос не дает позабыть, кто я есть. Гарик- один из немногих, кто моим обществом никогда не брезговал, и за это я прощал ему то, чего не простил бы никому другому. Гарик не давал проходу моей Анюте, целовал ее то в носик, то в шейку, пощипывал ее, подшлепывал, стараясь попасть снизу посерединке, под самое то, – словом, вел себя с нею, как барин с горничной, и это сходило ему с рук. Он называл Анюту почти по-супружески "Птунчик" и ради забавы ее подпаивал, а после сокрушался: "Рано Птунчик забурел". Меня он без стеснения звал выродком, монструозом, вервольфом, другого я бы живо окоротил, а от него терпел и сам удивлялся себе. Гарик вовсе не был физиком-теоретиком, как постороннему слушателю наших бесед могло показаться, он был чиновником среднего уровня, осведомленным обо всем понемногу, но, видимо, на этом среднем уровне ему был не с кем поделиться мыслями о вакууме, он расслаблялся только у нас. "Да, но в таком случае, – возражал я, – ты тоже спазм пустоты и, следовательно, являешься лишь частью, выбросом меня. Протуберанец ты мой, если тебе так красивее". Слова мои Гарику не понравились. Минуту он молча смотрел на меня, серенькие глазки его, подернутые пьяной слезой, медленно свирепели. "А вот мы сейчас поглядим, – проговорил он, – кто из нас чей протуберанец". Взял с полу пустую бутылку – и, прежде чем я сделал попытку его остановить, с размаху швырнул эту бутылку в окно. Сосед мой сверху, работник прокуратуры, проснулся и побежал на свою кухню бдеть. Я слышал, как босые ноги его липнут к линолеуму. Он распахнул окно, постоял, поглядел вниз, потом напился воды из-под крана и, громко выругавшись, удалился.
К черту Гарика, при чем здесь Гарик, с досадой сказал я себе. Гарик уехал в Германию – с билетом, как он выразился, в один конец. Было это еще в феврале. Уж не знаю, за каким лядом немцам понадобился чиновник среднего звена (там и своих таких навалом), безъязыкий, да еще с замашками далеко не тихого алкоголика: во всяком случае, выбитые стекла вставлять ему придется в Германии самому. Приходил к нам прощаться и почти трезвый ушел до полуночи: торопился к закрытию метро. Совал нам деньги, целый ком мятых и отчего-то сырых, как капустные листья, пятидесятирублевок. Мы с Анютой стояли у кухонного окна и глядели, как он шествует через двор в распахнутой "мокрой" дубленке, ни разу не оглянулся, паршивец, не махнул на прощанье рукой, так спешил по морозу в свою вечнозеленую Европу.





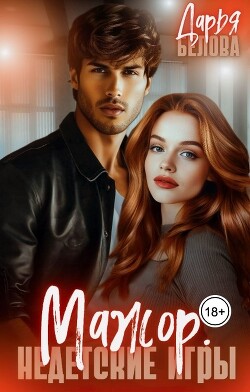


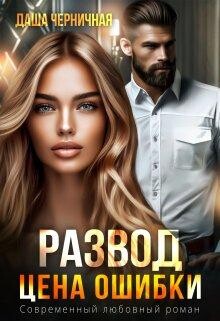




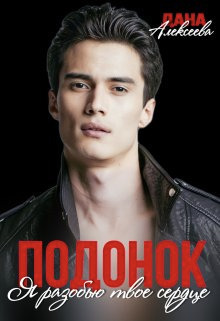



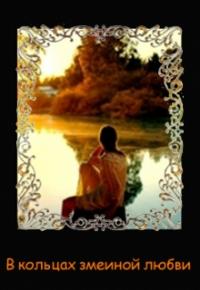

![Судьба, возможно, ты ошиблась [СИ] - Аграфена](/uploads/posts/books/327423/327423.jpg)