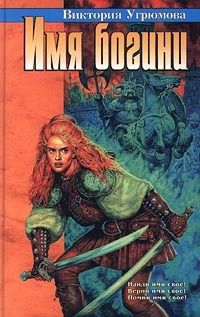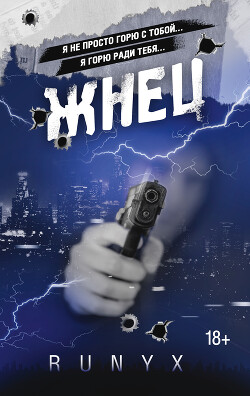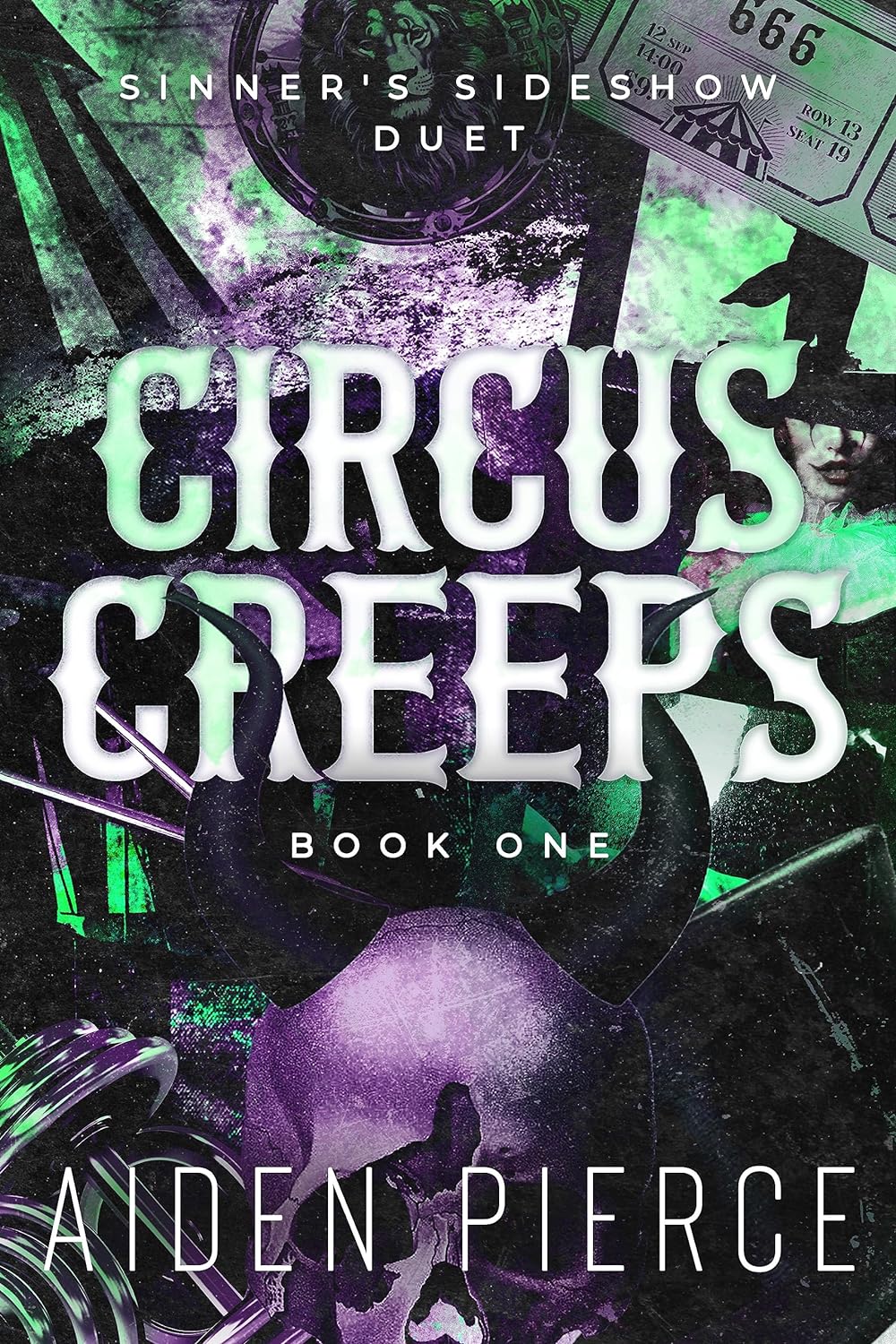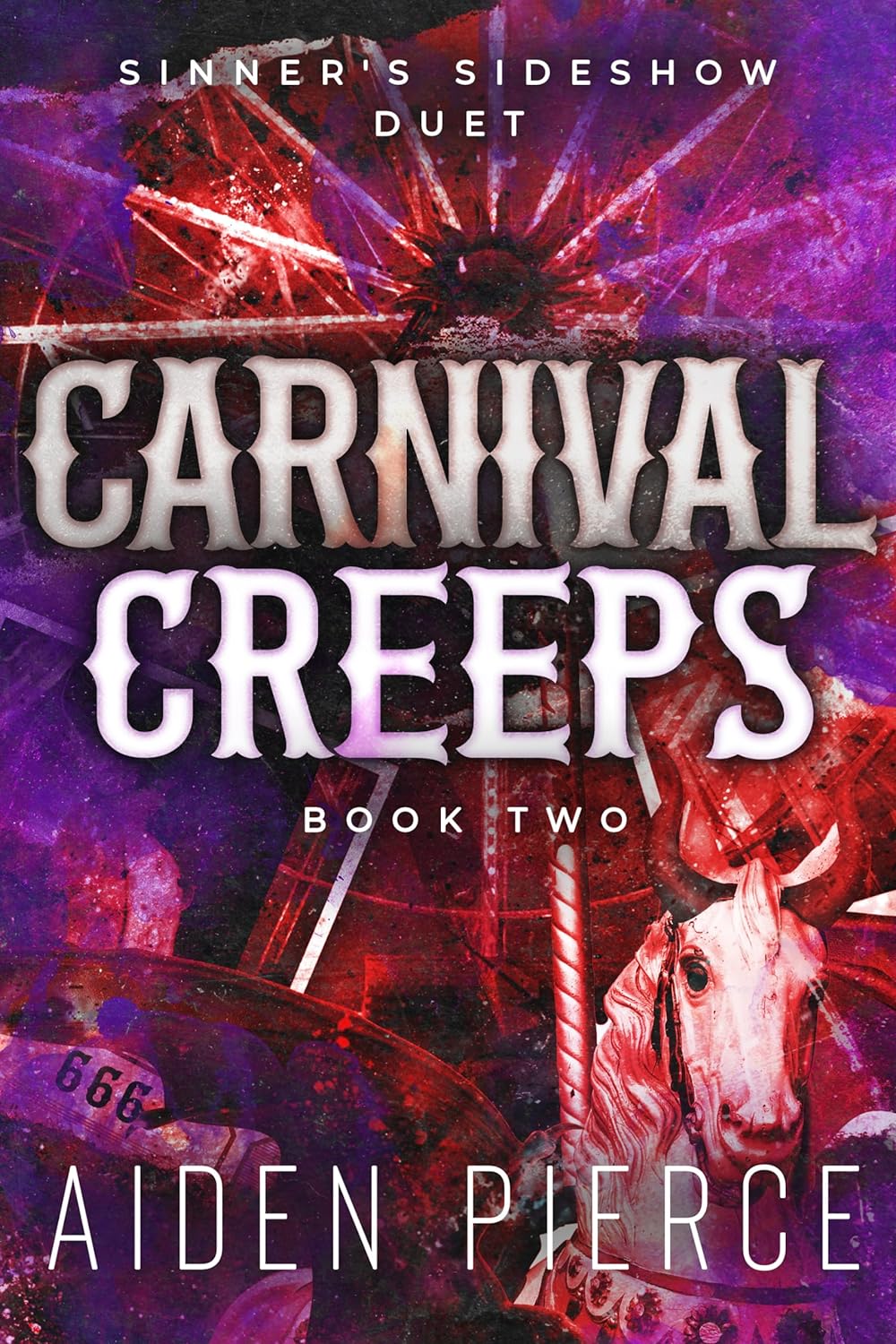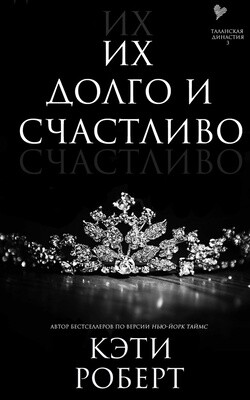Владимир Варшавский - Ожидание

Помощь проекту
Ожидание читать книгу онлайн
— Вот говорит, что учился у Зырянова доброте, а сам не вернул ему 200 долларов, которые тот ему одолжил. А ведь он так хорошо теперь устроен, а Зырянов, вы сами знаете, прямо нуждался, — раздраженно прошипел мне в ухо сосед, старый журналист.
Я вспомнил комнату для прислуги, в которой жил Зырянов, маленькую, под самой крышей, заставленную железными канцелярскими шкафами.
— И вот я скажу, — продолжал Кульковский, — титул общественного деятеля раздается у нас слишком щедро и часто без разбора. Но в приложении к Василию Палычу этот титул возрождается в самом глубоком, самом чистом его значении. Он был человеком особого типа, как бы печальником русской эмиграции. Он умел стать другом каждого, кто к нему обращался за помощью. И у него было невероятное уважение к человеческой личности. В разговоре с ним чувствовалось, как сам подрастаешь. На этом я и хочу закончить мои слова. Из кончины каждой человеческой жизни мы должны извлечь нравственный урок. В смерти Василия Палыча есть всем нам некий завет или завещание. Мы должны, так сказать, произнести какой-то безмолвный обет дорогой его памяти.
Было еще много речей. Все, что обычно говорится в таких случаях. Но сегодня готовые фразы звучали искренне. Зырянова любили, и его внезапная смерть всех поразила. Все чувствовали, что с уходом этого достойного и правдивого человека нравственный уровень эмигрантской общественной жизни непоправимо понизится. Никто не придет ему на смену. И никакого преувеличения не было в этих речах. Вся долгая жизнь Зырянова действительно была служением. Все, что о нем сегодня здесь говорили — это правда.
Выходя из зала, я столкнулся в дверях с Бобровским: «Алексей Николаич, как ужасно… Василий Палыч!»
Лицо Бобровского задрожало. Мне стало страшно, он сейчас заплачет. Я не должен был ему этого говорить. Ведь они дружили всю жизнь.
Вдруг, яростно тыкая в меня пальцем, Бобровский задыхаясь проговорил:
— Этот человек шестьдесят лет тому назад подпал под влияние Чернышевского!
Подошедший Кульковский с почтительной готовностью заглядывая Бобровскому в лицо, с одобрением подхватил:
— Так оно и есть, так оно и есть. Все это оттуда и пошло. Василий Палыч не мог этого охватить, что Ленин от Чернышевского, он не мог этого и взять. И это придавало некоторым его политическим высказываниям, я прямо скажу, характер какого-то безвкусия и я бы сказал не двойственности, а двоякости: он смотрел направо и налево. На нем была какая-то шапка невидимка. Вы меня извините, может быть я неясно выражаюсь, но проблема эта была, так сказать, брошена…
Бобровский смотрел на него озадаченно.
Мне говорили потом, что на том же собрании Бобровский будто бы сказал кому-то, что Зырянов для него умер год тому назад. То есть, когда у них в организации произошел раскол. Меня это поразило. Со стороны было даже трудно понять, что собственно отличает отколовшихся от тех, кто остался с Бобровским: у них была совсем одинаковая программа широкого объединения эмиграции для борьбы с большевизмом.
* * *Чем больше я писал о Бобровском, тем все ярче его образ возникал на страницах моей рукописи: «совсем как живой!» Но если поначалу это был хотя и бледный, но все же похожий портрет Бобровского, то постепенно словно кто-то другой начал проступать сквозь его черты. Я хотел правдиво и точно его описать, а вместо этого у меня из под руки вырастал фантом. Как ожившая кукла чревовещателя, он больше не зависел от меня и требовал, чтобы я все подробнее его описывал и придумывал для него все новые гротескные поступки и разговоры. И все-таки этот фантом казался мне вполне правдоподобным. Я даже с удовлетворением думал — так настоящие писатели пишут. Но в то же время, я чувствовал, что собирая рассказы о Бобровском, я делаю что-то дурное. Это чувство еще усилилось после того, как недавно я его видел в церкви. Со дня смерти Зырянова прошло уже несколько лет. Бобровский очень постарел за эти годы, осунулся, пожелтел. Говорили, он неизлечимо болен и почти совсем ослеп. Я заметил, когда он платил за свечку, у него тряслись руки. Да и «вторая весна» давно уже кончилась. Вдруг оказалось, что новой эмиграции он совсем не нужен. У него опять не было «окружения». Смотря на его дрожавшие руки, я понял всю несоизмеримость трагического существования этого почти слепого старика, такого же человека как я, с карикатурным Бобровским моих записей.
Мне было грустно. Думая о Бобровском, я лучше видел самого себя. Я осуждал его за равнодушие к людям. А я сам? Сколько людей я встретил в жизни, но никогда по-настоящему о них не думал, все был занят самим собой, своими мучениями, своими мечтаниями. И всегда пишу только о себе. А теперь уже старость и нет времени. По вечерам, после дня на службе, мертвая усталость. И только одно меня занимает. Между тем, я знаю, я никогда не найду ответа, ответа — нет.
Да, у меня вышла с Бобровским еще большая неудача, чем с Рагдаевым. Я не сумел почувствовать в нем то начало жизни и любви, которое так несомненно чувствовал в моей бедной четвероногой Мусе. Это, верно, чувство обиды помешало мне вообразить хотя бы на мгновение его настоящее «я», его человеческое, братское сознание, такое же как мое, таинственно соединенное в глубине — какой глубине? внепространственной, невообразимой — с вечным, великим Сознанием, которого не может не быть, иначе все бессмысленно, а это вряд ли так.
Но если это вечное, всеобъемлющее Сознание существует, то это Бог. Ведь не может быть сознания без кого-то, кто бы сознавал. Каждый раз, когда я стараюсь вглядеться в мои мысли, я вижу, они всегда сходятся в одной точке: необходимо, чтобы был Бог, в которого я так хочу, но все не могу поверить. Ведь, если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Я для того и пишу, чтобы удостовериться, чтобы победить сомнение, чтобы лучше вглядеться в действительность моей жизни, словно надеясь усилием внимания остановить смерть. Вот почему я стараюсь описывать мои мысли и чувства как можно точнее, стараясь проявить их в том первоначальном наивном виде, в каком они мне приходят. Это мучительно трудно. Под моим взглядом они начинают разрастаться во все стороны, как подводные растения в ускоренных фильмах. Стремясь к точности, я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд. К тому же в моем возрасте наивность смешна. И я прекрасно понимаю, как сомнительна ценность таких описаний непосредственных впечатлений. Но иначе мое предприятие теряло всякий смысл.
Противоречие: я сказал, что если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Ведь меня заставляет писать безотчетный страх, что если я не расскажу о моей жизни, о моих мыслях и чувствах, о них никто никогда не узнает, а то, о чем никто не знает, как бы совсем не существует. Если же я буду писателем, то мои мысли и чувства, мне казалось, дойдут до сознания людей и это спасет меня от полного исчезновения. Но, ведь, если Бога нет, если сознание людей не соединено с невообразимым, вечным, всеобъемлющим сознанием Бога, то люди не могут мне помочь, они сами умирают. Выходит, я пишу одновременно и потому, что не верю в Бога и потому, что все-таки верю.
IX
Чтобы лучше увидеть, что я по-настоящему думаю и чувствую, было бы правильнее всего записывать сны. Во сне не стыдишься быть самим собой, видишь свои чувства и мысли непосредственно, не меняя их из страха, что они покажутся ничтожными и наивными. Во сне я не обманывал самого себя. Даже когда я думал о том, какое впечатление мои поступки производят на окружающих, это думал «я», герой моего сновидения, а «я» настоящий только смотрел.
Говорят, бывают такие глубокие сны, когда душа соединяется с самым началом жизни. Потому-то я и старался запоминать и записывать сны. Вдруг вспомнится такой глубокий сон. К тому же я всегда любил сны. Даже в самых страшных не бывало, как наяву, невыносимого чувства остановки жизни, когда все кажется необъяснимым и странным. Во сне, как в детстве, сознание уверено, что совпадает с бытием. Для всего находится сколько нужно времени и места, но нет устрашающей невообразимой бесконечности пространства, и нет, как наяву, всегдашнего беспокойства, воспоминания о чем-то страшном и неотвратимом. Даже когда мне снилось, что меня убивают, я не умирал на самом деле. Я с любопытством говорил себе: «Вот сейчас меня убьют, и я узнаю, что будет после смерти, есть ли там что-нибудь или там „ничто“, невообразимая темнота». Но в глубине я знал, — это — только сон. И действительно, меня убивали, что-то болезненно обрывалось, но с чувством сожаления, что вот умер и так ничего и не узнал, я видел новый сон.
* * *Засыпая, я часто вижу парижские дома и церкви. Обычно это только часть стены или портала и они мне снятся недостаточно долго, чтобы рассмотреть, какой же это именно дом, или какая церковь. Но я знаю, — это Париж, и меня охватывает чувство любви. Даже когда мне вспоминались закоптелые от дыма паровозов дома по обочинам подъездных путей к Восточному вокзалу, я испытывал чувство счастья. С каким волнением я смотрел на эти черные стены, когда в первый раз приехал в Париж. Как давно это было! Сколько лет уже я не видел Парижа! Но ведь я там жил, гулял, ходил в кафе, учился… Это было, было. Пусть мое существование ничем не охранено от неизбежности уничтожения, но никакая сила не может сделать мое прошлое не бывшим. Я засыпал с чувством умиротворения.