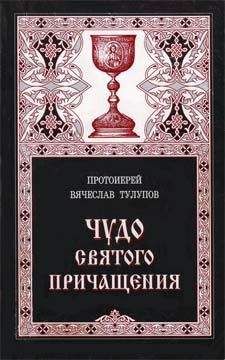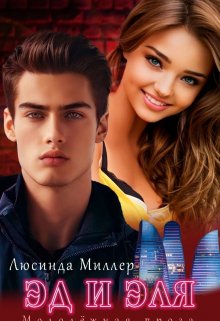Владимир Корнев - Последний иерофант. Роман начала века о его конце

Помощь проекту
Последний иерофант. Роман начала века о его конце читать книгу онлайн
— Ну чего смотришь, бумажная душа? — спросила она Думанского с издевкой. — Думаешь, у меня изо рта музыка пойдет? Думаешь, у Никаноровны шарманка внутри?
Вообразив, что вилка, валяющаяся на столе, — черепаховый гребень, она начала неспешно расчесывать седые космы, строя при этом страшные рожи и желая опять привлечь к себе внимание присутствующих. Грозно постучав пальцем по чистой обложке, она пророкотала зловещим голосом:
— Я все разведала! Я знаю, о чем книга!!!
В глазах ее неожиданно заблестели слезы. Она поманила взглядом Кесарева, подмигнула Думанскому:
— Царя-батюшку подменить задумали, Помазанника Божия? Душу его ангельскую вынуть порешили, беса в него вселить хотите?! И называется это у вас «инкарнация» — обкорнать, значит, Расею, без головы оставить! Ха-ха-ха! А хотите, завтра сдохну и никому не расскажу? Ха-ха! Ни Володеньки, ни Наденьки… Все с копыт. С приветом, дяденьки! — взлетела Никоноровна.
Кесарев поднял голову, пытаясь увидеть помело, на котором восседает старая ведьма-шантажистка. Рот у него открылся сам собой: это никем не понятое, исполненное какой-то невообразимой мистической энергетики и сатирической поэтики существо с видом полного превосходства над бренным миром с его суетой и низменностью уже парило под центральным куполом на дворницкой метле. Миг — и старуха с хохотом выпорхнула в крошечное купольное люкарн-окошко. Оглядевшись по сторонам, Кесарев будто устыдился чего-то и только произнес как бы в свое оправдание:
— Ну чего на меня уставились? Люблю рассматривать женское изобилие снизу. — И тут же перевел взгляд на свои ноги: из-под коротких брюк, вызывающе упираясь в пол, торчали грязные копыта.
VIII
Думанский проснулся в гостиной квартиры на Фурштатской, на узком кожаном диванчике. Он помнил, что ему снилось что-то кощунственно отвратительное и безумное, но не помнил, что именно, и последнее его радовало. Голова страшно болела, но это не препятствовало ясности мышления, как прежде.
«И как я мог столько проспать на таком неудобном ложе?» — удивился Думанский. К нему возвращалась телесная изнеженность благородных предков.
Молли всю ночь провела в кресле возле спящего Викентия Алексеевича.
— Как тебе спалось? Здесь ведь так жестко! — она словно прочитала его мысли. — Нужно было постелить в спальне, но ты так неожиданно уснул, и я не посмела тебя будить… Всю ночь волновался, что-то бормотал…
Кончиками пальцев возлюбленная нежно дотронулась до щеки Викентия и, разглядывая лицо дорогого человека, задумчиво произнесла:
— Колючий…
Викентий Алексеевич встрепенулся, вспомнив о том, кем еще совсем недавно он был. С нервной хрипотцой он выдохнул:
— Молли, мы уезжаем?! — Прочитав ответ в ее глазах, повторил уже утвердительно: — Уезжаем! Решено бесповоротно. Не могу… Устал я смертельно… Нельзя здесь больше оставаться — этот город… Сейчас здесь не спастись, понимаешь?! Уедем сегодня же!
Возлюбленная послушно кивнула. Викентий даже не ожидал, что она решится так сразу, без колебаний. «Удивительная женщина, сам Бог мне ее послал! Ведь ей сейчас, наверное, куда тяжелее, чем мне… Куда тяжелее…»
Весь день шли сборы: Глаша под присмотром барыни собирала какие-то баулы, чемоданы. Думанский в волнении носился по квартире, сцепив руки на затылке и лишь иногда давая советы, все больше невпопад. Порой он оборачивался к иконам, молился вполголоса. До Молли долетали обрывки фраз: «…спутника Ангела Твоего нам, рабом Твоим, ныне, якоже Товии иногда, поели сохраняюща…», «…спаси и сохрани Державу Российскую под святым омофором[179] Твоим…», «Если близок уже конец мира, то не без щедрот Твоих да будет кончина…»
Но вот все было уложено. Думанский взял извозчика и дожидался Молли возле подъезда. Она то спускалась, то вдруг, вспомнив о какой-то забытой вещи, поднималась в квартиру.
— И сама не пойму, зачем беспокоюсь? Ведь не вернусь сюда больше, а все не могу уехать… — твердила она, как бы извиняясь за свою растерянность, и прижимала к груди бережно обернутую в белый плат фамильную Иверскую икону. — Ну, теперь в последний раз… Там шкатулка с письмами, наверное, нужно взять… Впрочем, всё — едем, ничего не надо!
Викентий Алексеевич вздохнул с облегчением, перекрестил дорогу образом:
— Веди нас, Матерь Божия Иверская! — и с благодарностью вспомнил своего святого спасителя-победоносца.
Извозчик, еще крепкий старик лет под семьдесят, ждал указаний.
— Отвези нас, отец, на Николаевский вокзал, — распорядился Думанский.
Возницу растрогало уважение к его почтенному возрасту — нечасто так величали господа! — и он сразу почувствовал особое расположение к седокам.
— Видать, далековато собрались, государи мои? Поклажи-то эвона сколько! Всю жисть едем куда-то…
— Вот и мы так… — неопределенно вырвалось у Думанского. Разговаривать он не был расположен.
Петербурга Думанский не узнавал: не то чтобы забыл, как выглядят петербургские дома, особняки, вывески, как одеваются прохожие, как пахнет во дворах жареным кофе и тянет всевозможной снедью из поминутно открываемых посетителями дверей магазинов. Он не забыл особого лоска Северной столицы, но теперь все, что он видел вокруг, вызывало мрачные чувства: серое давящее небо, тупая холодность лиц, ощущение надвигающейся катастрофы «Раньше я мог часами бродить по этим улицам, восхищаться красотой фасадов, гармоничностью этого города Я жил одной жизнью с ним, а теперь все куда-то подевалось, растворилось — поэзия, романтика… Люди какие-то другие стали…»
— И верно, ничего хорошего в здешних краях сейчас не жди! — рассуждал, словно читая в душе, извозчик. — Дела творятся… Спаси и сохрани! Человек образ Божий потерял. Да взять вон — даже в Первопрестольной ураган пять тыщ дерев с кореньями выдрал![180] Старцы говорят, на гробы. То ли еще будет… А вы уж не осерчайте на мое любопытство — не в монастырь какой?
— «Вся Россия — наш монастырь», старик, — задумчиво произнес Викентий Алексеевич. — Это один великий писатель сказал, когда ты еще вряд ли родился.
Возница вздохнул:
— Антиллигент небось был, а тоже понимал, что к чему! Нынешние-то антиллигенты все бомбы в царя да в слуг царских бросают…
При выезде с Фурштатской на Литейный возок увяз в безликой, разношерстной толпе, состоявшей из возмущенных чем-то и беспрерывно гудевших сезонных рабочих, каких-то оборванцев и просто зевак. Кое-где мелькали студенческие фуражки. С какого-то балкона к собравшимся обращался темный некто в кожаной тужурке, такой, какие носят шоферы.
Молли пригляделась к выступавшему, узнала. На лице ее появился румянец волнения, правый глаз стал едва заметно косить. Она быстро повернулась к погруженному в себя Думанскому.
— Посмотри, Викентий! Посмотри же скорее, ведь это твой подзащитный!
Викентий Алексеевич встрепенулся, рассеянно поглядел по сторонам и увидел на балконе Гуляева, воздевающего руки к людскому рою:
— Те, кто должен служить Государю и народу, обманывают и унижают нас! Пойдем же к царю-батюшке, братья и сестры!
— Не пить им нашей кровушки! Дождутся! Хрена им с маслом! — рыгала разъяренная толпа.
«Все-таки у них получилось! Добились своего, адские отродья!» — Думанский сжал зубы.
У самого возка, закатывая глаза, корчился какой-то бесноватый:
— Ха-ха-ха! В самом пекле живем! Ой, жарко! А суд ваш сгорит, сгорит, сгорит!
Викентий Алексеевич инстинктивно обернулся назад, в сторону Литейного: над тем местом, где было здание Окружного суда, в небе ходили огненные сполохи. Думанский протер глаза — видение исчезло. Возле разогреваемой оратором толпы скопилась целая стая отчаянного вида бездомных собак, охотно подвывавших двуногим человекообразным. В ней особенно выделялся здоровенный лохматый пес, несомненно вожак, с невиданной преданностью и даже подобострастием внимавший каждому слову басистого «купца»-подстрекателя.
Из ближайшего переулка показались казаки. Старик извозчик изо всех сил вытянул кнутом лошадь:
— Н-но! Пошла, родимая! Баламутят всякие народ православный, а эти дурни уши развесили! Н-но! Подальше отседова!
Сани наконец двинулись по Литейному под собачий лай. Молли устало прикрыла глаза. Думанский смотрел на ее лицо и вспоминал последние страницы дневника, написанные ЕГО почерком.
…Молли! Молли! Возлюбленная моя, мое несбыточное счастье! Уже одно имя Твое звучит как молитва. Прости меня, Молли, прости! В тот вечер, благословляя древней родовой иконой Тебя и Думанского, я верил, что благословил НАШ будущий союз. Я был самонадеянно убежден, что мой план обречен на успех. Просчитав каждый шаг, каждое свое действие, я не учел лишь одного… Страх, отвратительный человеческий страх, от которого слабеют ноги и предательски замирает сердце! Эта напасть, свойственная ничтожным рабам, внезапно проснулась в моей душе: метаморфоза той роковой ночи приблизила меня к Тебе как никогда, я даже изменил линию жизни на своей «новой» руке, но я не смог сохранить самообладание, и сам испортил все! Ты не смогла признать в пьяном мужлане своего избранника. Как обрести покой? Ночи напролет скитаюсь по безлюдному городу, а в душе — мрачная бездна. Студеный ветер с залива только раздражает воображение, раздувает больные мысли, словно паруса одинокой шхуны, потерявшей курс в штормовом аду. Забыться невозможно, сон оставил меня! Лишь изредка днем впадаешь в какое-то сомнамбулическое состояние и долго потом пытаешься понять, где явь, где видения. Может быть, именно это состояние верующие называют тонким сном? Обычно запоминаются лишь отдельные, нелепые детали, но то, что открылось мне вчера, — ясно как Божий день! Я увидел небольшой древний храм — шатер колоколенки и сводчатая одноглавая церковь, каких в Петербурге не встретишь. Храм стоял среди старинного кладбища, в тени вековых кленов, со всех сторон окруженный крестами и пышными мраморными надгробиями. Мне сразу стало не по себе, дыхание перехватило — я не сентиментален и привычки бродить по кладбищам не имею, в православный храм и вовсе бы ногой не ступал — не испытывал потребности в самоуничижении, а тут… Кто-то вдруг — я не вижу, кто — властно кладет мне руку на плечо, и я слышу за спиной повелевающий голос: «Иди!» Необоримая сила подхватывает меня, и единым порывом я оказываюсь внутри храма. Церковь пуста, но свечи перед образами и в паникадиле жарко пылают, а в воздухе — сладковатый, умиротворяющий запах ладана. Впереди передо мной — образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в тяжелой серебряной ризе, украшенной множеством драгоценных вкладов. «Почитаемая икона!» — понимаю вдруг я, и неведомое мне до сих пор, всегда раздражавшее в других чувство религиозного умиления охватывает меня. Все тот же властный голос из-за плеча указывает: «Молись, сыне!» И, почувствовав, как чья-то теплая ладонь опустилась мне на голову, я преклоняю колена! Какая-то сила извне заставляет меня произносить слова молитвы: «Не о себе неприкаянном молю, Господи, — душа моя погрязла во грехе и ко греху возвращается, как пес на блевотину свою, — молю о чистых, светом правды Твоей Просвещенных! Благослови брачный союз их и утверди в Святом Таинстве Венчания! Ведаю, Господи, что вечна любовь их, крепка, как смерть. Все Ты видишь, Матерь Божия, всех Скорбящих Радость, — взор Твой проник в темную душу мою, никуда не скрыться от него, ничего не утаить… Я о себе, изувере, не смею просить, лишь простираюсь пред Тобой в страхе и трепете!» Воистину, не владея собой, я оказался с горящей свечой в руке у самой иконы, и, когда поставил ее в подсвечник, мне показалось, будто она пылает ярче других. Слезы потоком хлынули из глаз! Я снял кольцо с безымянного пальца правой руки — точно такое, только меньшее, ты найдешь на каминной полке в гостиной, Молли, — и оставил возле чудотворного образа. Когда же обернулся, готовый выйти из храма, я тотчас увидел того, кто повелевал мной — благообразного старца с седеющей бородой в малахитово-зеленом священническом облачении. На мгновение самообладание вернулось ко мне, и поскольку существо мое тут же воспротивилось происходящему, я хотел было отстранить старика с дороги, но голос его опять лишил меня воли: «Мария отдана мужу праведному! Иди и помни: любовь отвращается всякаго зла». Охваченный каким-то животным страхом, я бросился прочь, только бы не находиться более в этом жутком месте. Стихия бушевала — дождь стоял стеной, ветер выл в кронах деревьев, оглушительные раскаты грома, подобные грозному tutti[181] вселенского оркестра, сливались со все еще звеневшими в ушах словами старца: «Любовь отвращается всякого зла»! Природа словно прониклась неизбывной скорбью моей безнадежно погибшей души. Я коченел, заслоненный отсвета исполинскими кронами кладбищенских кленов, и коленопреклоненные ангелы-изваяния не в силах были вымолить прощения вечному изгою. Сознание готово было в любой миг оставить меня, вот тут-то я и очнулся… Теперь я знаю, что навсегда потерял Тебя, Молли, Гражина моя!