Михаил Громов - Чехов
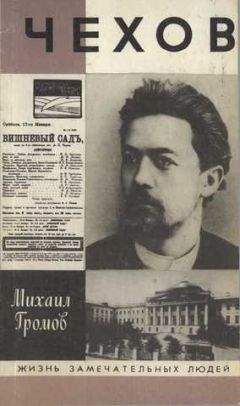
Помощь проекту
Чехов читать книгу онлайн
Но откроем Пушкина: Каменный гость существует, соседствуя с «Заклинанием», с такою бессмертной выдумкой, как трава забвенья… Больше того: он кажется почти реалистическим, он приходит, громыхая литаврами в оркестре, он протягивает руку. Да, тяжело пожатье каменной его десницы…
Словосочетание целостно, оно теряет смысл, если читать слова порознь. Иногда это ясно, а иногда нет, что особенно затрудняет нас в случаях, казалось бы, самых простых и привычных. Например, словосочетание «Война и мир», очевидно, включает в себя все значения слова «война», какие усваиваются нами при чтении романа: смотр войск перед Аустерлицем, Тушин, Наполеон, смерть князя Андрея, смерть Пети Ростова, плен Безухова, Каратаев — словом, все, о чем можно прочитать у Толстого. Но, кроме того, все безграничное множество соотнесений и припоминаний, какие возникают у нас, если мы так или иначе пережили войну или читали о ней в других книгах, старых и современных.
То же самое следует сказать и о слове «мир», с каким бы «и» оно ни писалось: здесь нужны не только все словарные, но и все воображаемые, подразумеваемые поэтические значения, все лично пережитое, сохранившееся в воспоминаниях, известное по рассказам и семейным преданиям — и т. д., и т. д. Здесь своя весьма обширная область значений и смыслов, исторических, общечеловеческих и глубоко личных.
Связывая эти слова союзом «и», мы получаем новую, весьма широкую область значений. В ней слиты и контрастно сопоставлены прежние две («война», «мир»), но возникает и множество новых, неожиданных для нас; они дают все новые и новые поводы для разноречивых толкований и споров, и смысл заглавного словосочетания, созданного Львом Толстым, кажется неисчерпаемым. Да так оно, по-видимому, и есть, поскольку заглавие этой книги представляет собой символ с безграничным числом значений.
Особенность его в том, что любое из этих предлагаемых ему значений может быть отмечено («декларировано»), но ни одно из них не может быть предпочтено («абсолютизировано») или противопоставлено другому. Можно сказать, какое из них нам более понятно и близко, какое — менее, но наше понимание не лишает права на существование иного взгляда, определенного иным читательским опытом и вкусом.
Художественная новизна «Вишневого сада» скрыта в его символах, уводящих нас в глубины исторической памяти, к древнейшим горизонтам художественного сознания. Мы, по-видимому, сохранили способность чувствовать содержание символов, как чувствуем радость, печаль или боль; но понимать их, воплощать на сцене, говорить о них мы не умеем: «тайна сия велика есть…» Собственно чеховское содержание пьесы воспринимается нами как лирика, отзываясь в глубинах души; разум же наш недоумевает: почему? откуда? Такие сожаления — о чем? Такая печаль — по какому же поводу? Не дворянские же гнезда, которых давно уже нет на свете, нам жаль, не дворянство же, сменяемое буржуазией?
Едва ли ее в каждом персонаже «Вишневого сада» есть своеобразная двойственность: они не только выходят на сцену (Гаев, Лопахин, Фирс и т. д.), но еще и кажутся зрителю знакомыми по книгам. Так Трофимов — это существо с ужасным прошлым и прекрасным будущим, но без всякого настоящего — несомненно, «новый человек» в духе Чернышевского.
Аня мечтает о «новом саде», и Петя вторит: не надо жалеть старый. В Трофимове явственно отразился особый слой российского студенчества, питавшего непреодолимое отвращение к систематическому образованию, университетскому порядку и ученым традициям. Вечные искатели правды (как Лихарев из рассказа «На пути»), вечные студенты, цель которых — жертвенная искупительная гибель во имя будущего, а вовсе не терпеливый труд ради него.
Инфантильность, детскость Пети не случайны: Гриша, сын Раневской, — призрак умершего мальчика в сценической тени Трофимова. Потому, видно, и борода не растет. И незачем одеваться прилично или пристойно, не нужны калоши новые. Есть в этой бездомной «расхристанности» своя доблесть, и нечто роковое, как в одеянии монаха-капуцина, подпоясанного веревкой, как позднее, уже на нашей памяти — в презрении к галстукам, шляпам, туфелькам на каблуках, всяческой косметике; женщины в красных косынках, с короткой стрижкой; бедные шифоньеры в бедных комнатах, где почти ничего — ни одежды, ни белья; бездомные дети.
У персонажей «Вишневого сада» нет не только «амплуа», но нет и места в сюжете, «сценической судьбы» — все либо в прошлом, либо в будущем, более или менее радужном и светлом, словно в «четвертом сне» (Раневской все что-то чудится и снится).
А будущее, в сущности, есть только у того ребенка, который, может быть, появится у Дуняши. Это он станет писать в анкете: «из крестьян».
Будущее Ани и Пети стало нашим прошлым.
Рядом с Фирсом, Дуняшей, Епиходовым, Раневской стоят их зеркальные отражения, и каждый из них отбрасывает иной раз едва уловимую, какую-то почти невидимую, но все же различимую литературную тень.
За два года до постановки чеховской комедии прошла премьера «На дне». Слова Сатина: «Человек — это звучит гордо» — вошли в поговорку и стали крылатыми. Чехов ответил Горькому полемическим монологом Пети Трофимова: «Какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать».
Во втором действии появляется и безвестный Прохожий, похоже — босяк, в белой потасканной фуражке, слегка пьяный, который так пугает Варю и которому истинно русская Любовь Андреевна отдает последний золотой.
Раневская не знает цены деньгам, поскольку не связывает с ними ни радостей своих, ни печалей — вообще ничего, что имело бы в ее глазах смысл, ценность или хотя бы цену. Даже дом ее, сад — не деньги, а память о детстве, о первых прочитанных и пережитых, романах, о предках, о бедном ее сыне.
«Прохожий. Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная… (Декламирует.) «Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон…» (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать…
Варя испугалась, вскрикивает.
Лопахин (сердито). Всякому безобразию есть свое приличие!
Любовь Андреевна (оторопев). Возьмите… Вот вам… (Ищет в портмоне.) Серебра нет… Все равно… Вот вам золотой…
Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (Уходит.)
Смех».
Можно понять это как барскую повадку сорить деньгами, и такое у Раневской действительно было: «Что ж со мной, глупой, делать? Я тебе дома отдам все, что у меня есть». Но дома нет ничего, и в этом отношении к деньгам — не одно барство, но и русская недоверчивость и предубеждение: не в деньгах счастье (что можно откупить за них, что вернуть?). А в чем? В любви, как у Раневской: Бог с ними, и с деньгами, и с воспоминаниями, и с вишневым садом, зовет — и поскорее бы в Париж. А в чем еще? В будущем, как у Ани: мы посадим новый сад… и у Лопахина: мы срубим старый, понастроим тут дач… А еще в чем? В прошлом, в детстве Раневской, в молодости Фирса, когда всех отпустили на волю, а он остался при господах — да и сейчас остается среди теней и призраков прошлого. Счастье: или было оно, или будет, а сейчас его нет, и все мимолетно, шуткой, как у Шарлотты или Дуняши.

























