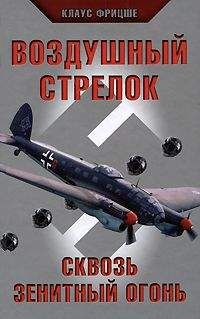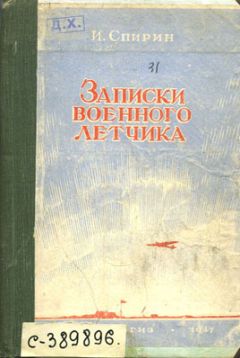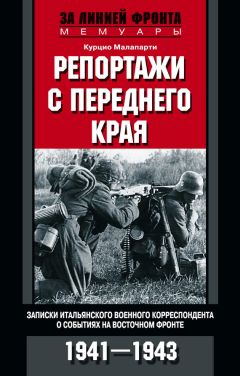Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
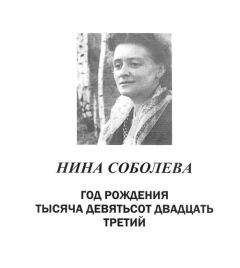
Помощь проекту
Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий читать книгу онлайн
Среди героев есть и «ответственный работник областного масштаба», и простые «рядовые труженики». Есть и один молодой парень из заключенных, которого держат («проверяют») после плена в лагерях и срок еще не истек, но болезнь вынудила временно поместить его в общую больницу, где проводят курс облучения. Размышления больных о жизни и смерти, о человеке и обществе, переосмысление своего прошлого — содержание романа. Ясно выявлена психологическая (и социальная) несовместимость «ответ. работника» и «зека». Первый оскорблен тем, что его сосед по койке «преступник», требует от дирекции больницы «избавить его от такого соседства» и т. д. «Зек» не скрывает своего презрения к «начальнику». А мысль автора очевидна: ценность человеческая определяется не теми «ролями», которые играем мы в жизни, не уровнем ступеньки, на которую поставила нас судьба, а нравственным багажом. И в преддверии смерти это ощущается с предельной остротой. В общем, мысль не нова. И произведение это — не шедевр, но уж во всяком случае и не «поклеп на советскую действительность». Самое любопытное, что когда я спросила о романе «Раковый корпус» одну даму из горкома (ведающую делами радио и телевидения): «Правда ли, что там о Власове? И почему название такое странное?» (будто не знаю), то она ответила убежденно и очень горячо: «Да! Там сплошное воспевание власовщины, а вся наша армия представлена в виде «раковой опухоли»… Вот так! Если общественное мнение формируется подобными методами, то как же можно верить всему тому, что пишут сейчас о тех произведениях Солженицына, которых я не знаю?
Появилась в «Литературной газете» огромная статья, на два разворота, доктора исторических наук Яковлева. Нет сил ее пересказывать (оставляю ее в конверте с вырезками как документ), но то, что там концы не сходятся с концами, видно невооруженным глазом. Бесконечные исторические экскурсы и фантастические «домысливания» случайно вырванных из контекста фраз. Такими методами можно доказать с одинаковым успехом и то, что автор — «знамение времени» (как это делают всяческие радиостанции Запада), и то, что он «закоренелый негодяй». Как понять тот факт, что в 60-е годы Солженицын был, среди тысяч других, реабилитирован правительством как невинно пострадавший в годы культа, а сейчас профессор Яковлев пишет о нем: «Что делал в то время, когда советские люди от солдата до генерала армии ценой жизни своей выполняли воинский долг, этот, по критериям антикоммунистов, «русский патриот» Солженицын? Стоило Красной Армии прийти туда, откуда затевался поход на Восток, Солженицын не мог больше сдерживаться. Били тех, перед кем он мысленно всегда стоял на коленях, — прусских милитаристов. Солженицын опозорил погоны офицера, занявшись распространением гнусных слухов, имевших в виду подорвать боевой дух войск. По законам военного времени он был удален за тяжкие преступления из рядов действующей армии. Миллионы солдат ушли вперед добивать фашистского зверя, а Солженицына отправили в тыл — в тюрьму. Там, в дикой злобе он оттачивал замыслы пасквиля, появившегося много лет спустя, как «Август Четырнадцатого», но задуманного еще в юношеские годы» и т. д.
Так как же могли реабилитировать такого злодея, если это все правда?! И почему мы должны всему этому верить?
25 февраля
За это время кое-что прояснилось для меня. Сволочное время — не могу, не имею права! упоминать, кто говорил, где, когда. Запишу лишь те фразы, мысли, факты, которые запомнились.
Об истории с Солженицыным. Он последние годы впал в какое-то обостренное состояние мессианства, считал чуть ли не долгом жизни проповедь борьбы с «Ложью» (в которой он видит основное зло) способом пассивного бунта: «Если считаете, что лгут газеты, не читайте их. Если вынуждены быть в атмосфере лжи на работе, измените ее на те области, где это исключено (земледелие, физический труд и т. д.) Если лживо окружение ваших друзей, уйдите от них. Каждый способен в рамках общества сохранить уважение к себе и чистоту совести» (не ручаюсь за слова, но нечто подобное по смыслу). Причем все это излагается подчеркнуто архаично-русским стилем, с длительными <… > и почти фольклорной напевностью. Он верит в могущество русского языка, способного подсознательно заставить откликнуться в душе русского человека каких-то забытых, но истинно славянских струн (что, кстати, далеко не очевидно и, напротив, многим мешает принять его даже в чем-то и разумные доводы). Есть у него и явный налет религиозности, что тоже работает против него — слишком уж мы все атеисты по духу. Ну, и эта «проповедническая деятельность», вряд ли представляющая серьезную опасность и, скорее, интересная для психиатра: почему человек конца ХХ в. пользуется столь архаичными методами общения. А для социолога вопрос: что в нашем демократическом обществе порождает столь искривленное по форме и фанатичное по духу стремление пробиться к сознанию соотечественников. (Чем не протопоп Аввакум ХХ века?). И почему нет «прямых путей», а надо «пробиваться»? Вся эта деятельность Солженицына в сочетании с неизвестными нам, но широко публикуемыми на Западе его романами приводит к тому, что предпринимается решение «зло пресечь». Посылают ему повестку с «приглашением» одну, другую — он не идет. Тогда прибывают к нему домой четверо, увозят. Естественно, жена бросается к друзьям — писателям. Кто шарахнулся в сторону, кто согласен что-то предпринять, но что? И у всех одна мысль: неужели начались снова те, столь свежие в памяти, времена, когда надо прислушиваться к шагам на лестнице. Евтушенко, находящийся в критическом состоянии из-за обструкции, устроенной ему бывшими друзьями В. Аксеновым и Поженяном за его «флюгерность», за то, что ходит в «любимцах», за то, что министр Радио-Телевидения сказал: "Надо Евтушенко чаще привлекать к публичным выступлениям, он теперь вполне управляемым стал», немедленно получает разрешение на вечер в Колонном зале с трансляцией в двух программах, а кличка «Управляемый» закрепляется и доводит его до бешенства. И он с присущей ему безрассудностью кидается в омут с головой: телеграфирует в Управление культурой о «позорном», недопустимом факте… о нежелательном резонансе, и вообще о «методах прошедших лет…». Разумеется, скандал. Концерт и телепередачи отменены. Но и банальная «отсидка» Солженицына заменяется эффектным трюком с «выдворением» — сажают в самолет и везут неизвестно куда. Высадили, оказалось — в ФРГ. Шум на весь мир. Журналисты как мухи на мед. Но Солженицын решил выдержать их натиск и отказался от всяческих интервью. Но там народ ушлый, поняли, что прямой атакой его не взять, и пошли в обход, а он на это клюнул и разразился «Заявлением — протестом», которое мгновенно напечатали все газеты. Оказывается, газетчики спровоцировали выступление Солженицына, напечатав явную «утку» о том, что к нему, якобы, где-то на улицах Цюриха, когда он шел к банку (его богатство Нобелевского лауреата везде подчеркивается), подошел какой-то «агент из Москвы» и передал письмо от жены, которое он эту «первую весточку» тут же прочитал и расплакался. Солженицын мгновенно взорвался и потребовал, чтобы дали опровержение: никакой «агент» от жены ему ничего не передавал, т. к. в этом нет надобности — он ежедневно разговаривает с семьей по телефону и никто никаких препятствий ему в этом не чинит. А если здешние газеты способны выдумывать подобные небылицы, то «здешняя пресса еще хуже, чем наша, российская» (пересказываю с теми комментариями, которыми этот рассказ сопровождался). Разумеется, такое выступление наивно и смешно. Солженицын еще раз доказал свою детскую наивность («один против всех»): так было и по эту сторону границы и теперь — по ту. Естественно, что он будет вытолкнут и из того общества. Уже после этого первого его выступления к нему изменилось отношение тех, кто собирался делать на нем бизнес (сделают и теперь, но Солженицына при этом раздавят). И эти «разочарования» в Солженицыне немедленно опубликовали наши газеты. Еще бы, тамошние журналисты заговорили почти нашим языком: «Теперь, когда он оказался за пределами Сов. Союза и лишился возможности изображать себя святым мучеником, пьедестал, который мы ему создавали, быстро дает трещины» («Лит. газета» — 27/II-74).