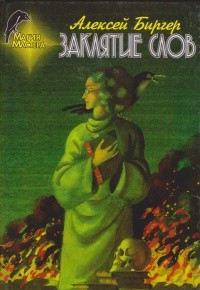Николай Языков: биография поэта - Алексей Борисович Биргер
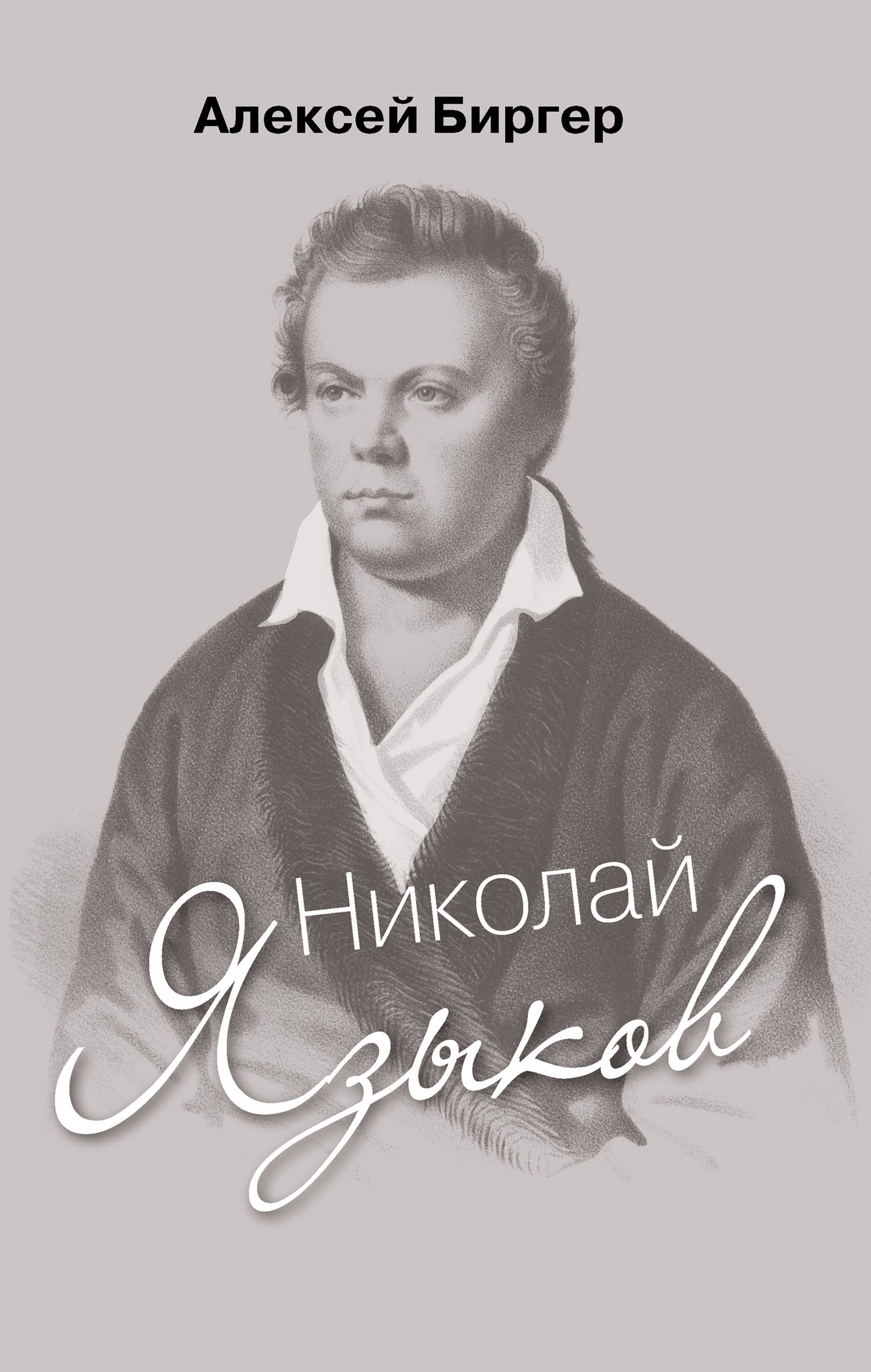
Помощь проекту
Николай Языков: биография поэта читать книгу онлайн
Кардинально необходимо восстановление на Руси патриаршества, чтобы независимый патриарх сперва привел весь народ к покаянию за многие века «отречения» (слово Чаадаева) от подлинного христианства, а потом был бесстрашным предстоятелем совести народной перед императором, перед любой властью.
То, что Гершензон списал это на не очень интересные и важные «обочины мысли», можно объяснить лишь общей атмосферой конца девятнадцатого – начала двадцатого веков, когда любой поворот в сторону церковной проблематики презрительно именовался «мистицизмом». Когда читаешь его поздние работы, созданные в послереволюционное время, уже при многострадальном патриархе Тихоне, видно, что он во многом пересмотрел свои взгляды. Но «Чаадаев»-то писался намного раньше.
А между тем это то, что теснейшим образом объединяло Чаадаева с Хомяковым и лучшими славянофилами (вспомним стихотворение Хомякова с призывом к всенародному покаянию, между ним и идеями Чаадаева иголочки не просунешь), и то, что бесповоротно отделяло Чаадаева от Герцена, Огарева, Грановского и других «западников».
Борьба за восстановление независимого патриаршества на Руси ставится Чаадаевым, Хомяковым, графиней Ростопчиной, Каролиной Павловой, Шевыревым и многими другими во главу угла.
И кто может стать первым патриархом? Конечно, самый достойный – Филарет. На него все упование москвичей.
А для Николая I мысль о независимом патриаршестве страшна и ненавистна чуть ли не более всего. Может даже, ненавистней, чем была для Петра Великого. И, если вчитаться и проанализировать: «клевета на Россию» в «Первом философическом письме» была лишь поводом для беспощадной расправы над Чаадаевым, а истинной причиной стало то, что Николай явно уловил, скорее инстинктом защиты своей абсолютной власти, чем разумом важнейшую для самого Чаадаева мысль: весь народ подспудно, но неоступно чает восстановления независимого патриаршества, чтобы остаться народом.
Отсюда же и постоянные гонения на славянофилов, о которых в советское время не любили вспоминать: мол, цари травили только западников и либералов. Про жуткий разгром 1847 года мы говорили в самом начале книги. Да и та же судьба братьев Киреевских очень показательна.
Отсюда, и постоянный надзор за Филаретом, мелочные и крупные придирки, несколько раз – угроза лишить его сана митрополита московского. Может быть, и лишили бы, но он короновал Николая, и это само по себе делало его фигурой достаточно неуязвимой, и к тому же Николай – тут надо отдать ему должное – никогда не забывал тех, кто поддержал его в трудную минуту, оттого и терпел строптивого святителя московского. Но оттого-то Филарет и очень не любил бывать в синоде, всячески уклонялся от поездок в Петербург. Бывало, избегать личного присутствия в синоде у него получалось по многу лет.
Вот в чем были истинные суть и смысл той борьбы, которую начали лучшие силы и лучшие умы славянофилов. Да, по отношению к Чаадаеву и Филарету даже среди самих славянофилов был раскол. Раскол в этом плане и между нежно любившими друг друга братьями Киреевскими, Иван – за, Петр, «Меченосец» – против. Но, как бы то ни было, получалось, что Языков, от личной обиды дав волю своему перу, дал тем самым залп по собственному стану. То, что на него обрушились с критикой и Хомяков, и Каролина Павлова, и многие другие ближайшие люди, включая родную сестру, стало для него неприятной неожиданностью, которую все-таки можно пережить. А вот читать письмо Гоголя было для него, наверно, совсем неприятно (24 марта (5 апреля) 1845 года, из Франкфурта):
«Письмо от 10 марта получил и с ним стихотворение к Шевыреву. Благодарю за него. Оно очень сильно и станет недалеко от “К не нашим”, а может быть, и сравнится даже с ним. Но не скажу того же о двух посланиях: “К молодому человеку” и “Старому плешаку”. О них напрасно сказал ты, что они в том же духе; в них, скорей, есть повторение тех же слов, а не того же духа. В том же духе могут быть два стихотворения, ничего не имеющие между собою похожего относительно содержания, и могут быть не в том духе, напоминающие содержанием друг друга и, по-видимому, похожие. Это не есть голос, хоть и похоже на голос, ибо оно не двигнуто теми же устами. В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела. И мне кажется это несколько мелочным для поэта. Поэту более следует углублять самую истину, чем препираться об истине… …Друг мой, не увлекайся ничем гневным, а особливо если в нем хоть что-нибудь противуположное той любви, которая вечно должна пребывать в нас. Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братий. Нужно, чтобы в стихотворениях слышался сильный гнев против врага людей, а не против самих людей…»
В общем: сильно уронил ты свой поэтический уровень, а я-то на тебя рассчитывал…
И Языков, без всяких всплесков оскорбленного самолюбия (либо подавив эти всплески), прислушался к Гоголю. Он не перестал полемизировать, но с тех пор его полемика становится более мягкой и мудрой, всегда сопровождается положительным примером. Таковы его послания Хомякову, Петру Киреевскому, просто потрясающее «В альбом» своей сестре Екатерина Хомяковой», «Стихи на объявление памятника Карамзину…»
Незадолго до смерти Языков завершает свою последнюю поэму, «Липы». В каком-то смысле, Языков пишет свою «Шинель»: вроде бы простым и безыскусным, но легким и гармоничным стихом Языков рассказывает историю «маленького человека» аптекаря Кнора, у которого по прихоти властей не просто липовый сад был уничтожен (липы для Кнора и его жены то же, что шинель для Акакия Акакиевича), но и вся жизнь растоптана и погублена. Многие поражались, как это при нелюбви к «немчуре» Языков так любовно, трепетно и сочувственно описал аккуратный быт немецких поселенцев-колонистов на Волге, откуда взялось столько сострадания к ним. Да в том-то и дело, что здесь речь идет о маленьких людях, и потому они – люди, не «немчура», а просто немцы, со своим укладом, который так трогателен и мил… К сожалению, поэму здесь целиком не процитируешь, а вырывать из нее куски – последнее дело, настолько естественно и неразрывно движется повествование от начала до конца. Так что остается отослать читателя к книжной полке: если не читали «Липы», то вас ждет замечательная