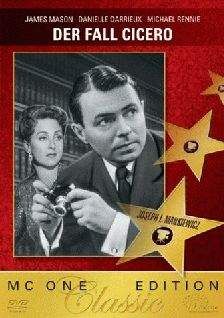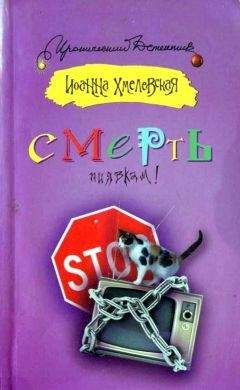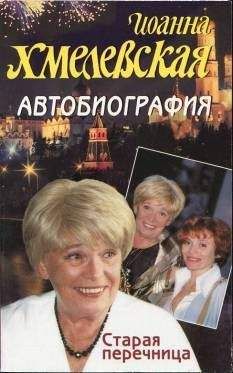Олег Волков - Погружение во тьму
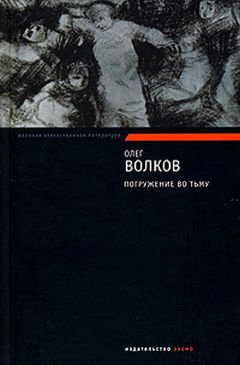
Помощь проекту
Погружение во тьму читать книгу онлайн
А вечером, после третьей дойки, Анисья торопилась в контору своего колхоза «Ленинский путь» и там задерживалась подолгу. И эта ее конторская повинность была намного унылее и даже страшнее неизбывного ярма на ферме. Сюда она приходила выпросить — вернее, высидеть — аванс в три рубля тогдашнюю цену двухкилограммового кирпичика черного хлеба, без которого нельзя было ей возвращаться к детям.
Колхозники «Ленинского пути» в те поры на трудодень не получали более или менее ничего, и председателю было и впрямь нелегко изыскать, в счет каких зыбких перспектив удовлетворить просьбу доярки. И с другой стороны, было невозможно отпустить мать пятерых детей, солдатскую вдову, не выписав ей трояк, с которым бы она могла забежать в сельпо. Занимаясь очередными делами в своем кабинете, председатель ни на миг не забывал про молча и упорно дожидавшуюся его просительницу. Следует, к чести его, сказать, что, поворчав и отведя душевную досаду криком: «Ходите все ко мне, а я где возьму?», он неизменно кончал тем, что подписывал бумажку. И истомившаяся Анисья бросалась к кассиру, потом опрометью бежала в лавку, боясь не поспеть до закрытия. На следующий день все начиналось сначала.
Немыслимо колотились в те годы ярцевские колхозники. Трудная, подневольная их доля особенно оттенялась тем, что в селе — районном центре жило начальство, размещались конторы леспромхоза, рыбтреста, торговых учреждений, словом, было немало сытого, вполне благополучного народа, работавшего вольготно.
Жители этого старинного села в давние годы мало занимались хлебопашеством. Их основным занятием были промыслы: рыбный и пушной. Коров держали по многу, правда, малоудойных, мелких, но неприхотливых к корму и условиям зимовки. Теперь даже трудно взять в толк, как это, налаживая новые формы жизни в этих краях, не направили усилия на развитие животноводства и таежных промыслов, то есть укоренившихся и проверенных вековым опытом занятий, наиболее выгодных и надежных в условиях таежного Севера. Весь этот опыт был перечеркнут во имя погони за химерой: надо было доказать, что и «на льдине лавр расцветет» — стоит только выработать конституцию и припугнуть!
Припоминаю деятельность опытного опорного пункта Института полярного земледелия в Ярцеве в начале пятидесятых годов как своего рода рекорд очковтирательства. Директор Бастриков хлопотал о фруктовом саде; его супруга, тоже агроном — и даже с ученой степенью — взяла на себя не менее сенсационное, хотя и столь же бесперспективное здесь, как и плодоводство, дело — выращивание особых сортов гречихи и пшеницы, которые бы «наперекор» стихии созревали за короткий здешний вегетационный период между последним весенним и первым осенним морозами, выстаивали в знобящие плотные туманы…
Если яблони не плодоносили и никак не росли, в лучшем случае давали по горстке дрянных плодов величиной с грецкий орех, к тому же больных, тем ставя Котика, как ласково звали Бастрикова подчиненные и собутыльники, в положение почти безвыходное, когда требовались образцы даров северной Помоны на выставку достижений в Москву, то хозяйке полеводства все же удавалось выбрать на своих участках сноп-другой достаточно длинных стеблей пшеницы. Они и свидетельствовали на далеких столичных стендах успешное и победоносное продвижение сталинского земледелия за Полярный Круг!
Преступность всей затеи заключалась в том, что эти шарлатанские эксперименты внедрялись в практику на ярцевских полях. И в колхозе не созревала пшеница, гречиха даже не прорастала, под снег уходили борозды с карликовыми корнеплодами; на покосах курились зароды сопревшего сена. Задерганные мужики не знали, за что браться, не справлялись со взваливаемыми на них работами. То поступало срочное, как боевой приказ, распоряжение ввести куроводство или, наоборот, ликвидировать птицеферму, чтобы срочно переключиться на тонкорунное овцеводство; телеграф приносил колхозу приказ немедленно — со дня на день — обзавестись пасекой; перепахать клевера, чтобы засеять поле медоносными травами… Охотничать и рыбачить этим прирожденным таежникам, готовым все отдать, лишь бы дали побелковать в сезон и поневодить на реке, запрещалось — и очень строго, — чтобы они не отвлекались от полевых работ. А на трудодни колхозникам начисляли в иной год по пятнадцати граммов зерна, причем выдавали им из того, что оставалось в тощих колхозных закромах после выполнения «первой заповеди» — сдачи хлеба государству: то были чаще всего сметки — охоботья, куриный корм низкого качества…
Помню я и корреспонденции, печатавшиеся в те годы в краевых газетах и частенько воспроизводившиеся в центральных. В них на все лады воспевались успехи приполярных хлеборобов. Один такой корреспондент, некто Казимир Лисовский, красноярский борзописец и пиит, расписывал свои впечатления от бастриковских яблоневых садов, «шелестящих листвой на ветру». Они явно не предназначались для жителей Ярцева, хотя — кого в те годы не убеждали в чем угодно газетные безапелляционные строки! Читая оды Лисовского, я имел перед глазами хилых карликовых питомцев Бастрикова, которым не помогали никакие укутывания и удобрения: они редко выживали в грунте — большинство погибало в ближайший год после пересадки из теплицы.
Все это смахивает на анекдот в стиле Салтыкова-Щедрина, на гигантский розыгрыш, над чем бы посмеяться, если бы жертвой ученых экспериментаторов благоденствующих и процветающих, — каких развелось в сталинское время множество, готовых подтасовать, надуть, угробить уйму средств, если бы, повторяю, жертвой этих бесчестных очковтирателей не стало обширное село, жители которого расплачивались за эти авантюрные затеи.
* * *Начало шестидесятых годов. Я снова в Ярцеве, но уже по своей воле: приехал по писательской командировке.
Нескончаемые боры на Сыму — впадающем неподалеку от Ярцева могучем притоке Енисея — тянутся по обоим берегам реки. За ними — обширные болота. Они прорезаны речушками и ручейками, потаенными, холодными, наполненными темной торфяной водой. Это лучшие места для промышленника: глухарь с рябчиком держатся здесь — пойменная чаща кормит и прячет. На угоре, по кромке этой поймы, можно всегда набрести на следы расчищенных некогда точков и остатки ловушек давно заброшенного охотничьего путика.
Промышляя по таким речкам, случается наткнуться на старые сечи с редкими дотлевающими пнями. На оголенных площадях — молодые сосняки и отдельные, неведомо как устоявшие столетние великаны. И как-то я набрел на Остатки лежневки: вдоль зарастающей, еле приметной просеки догнивали шпалы.