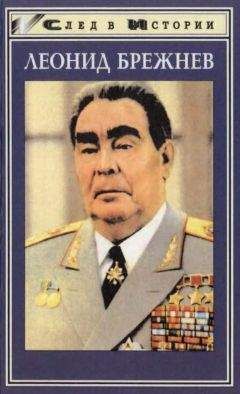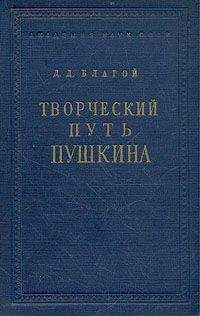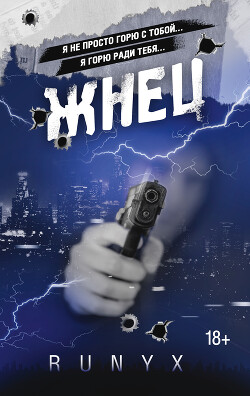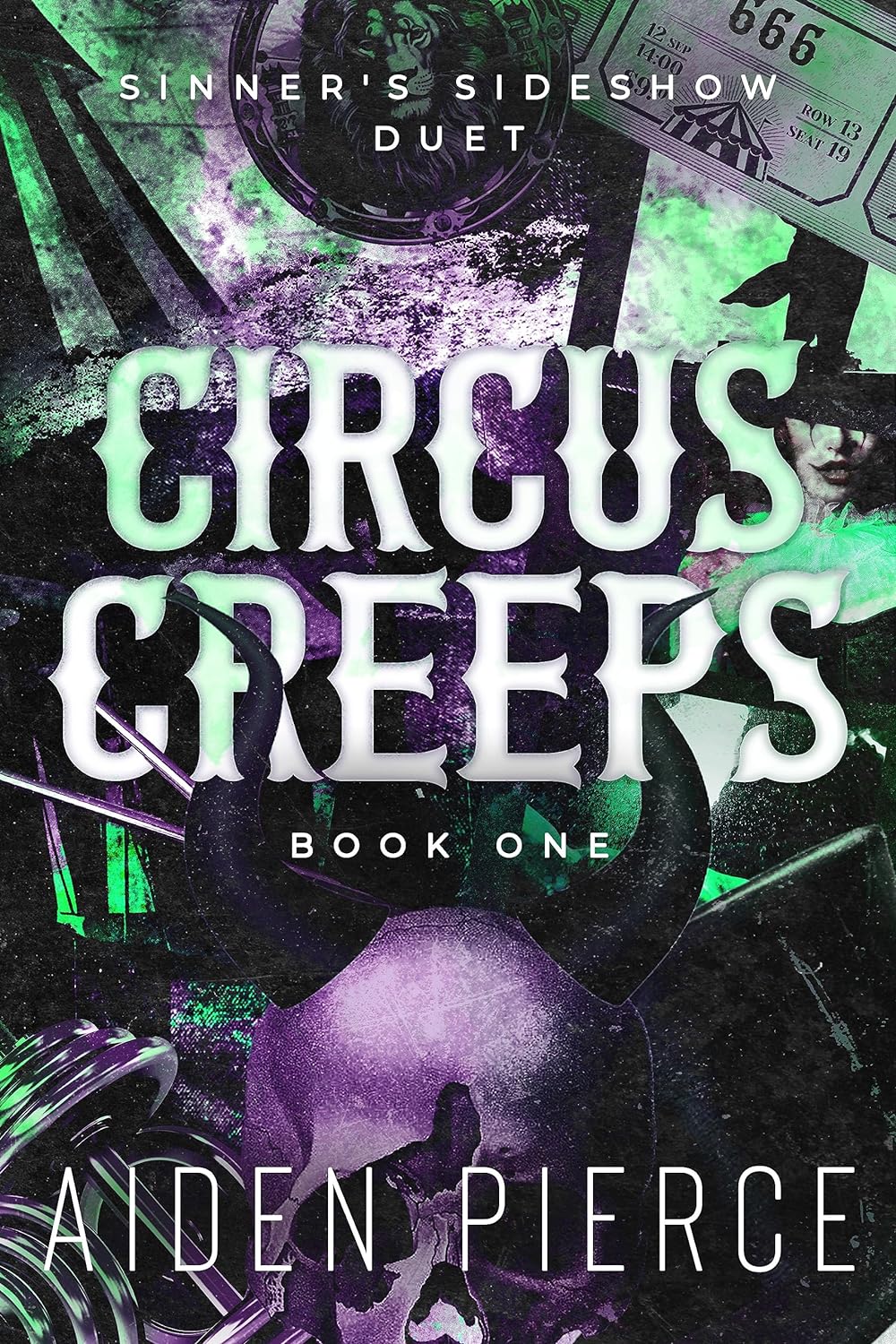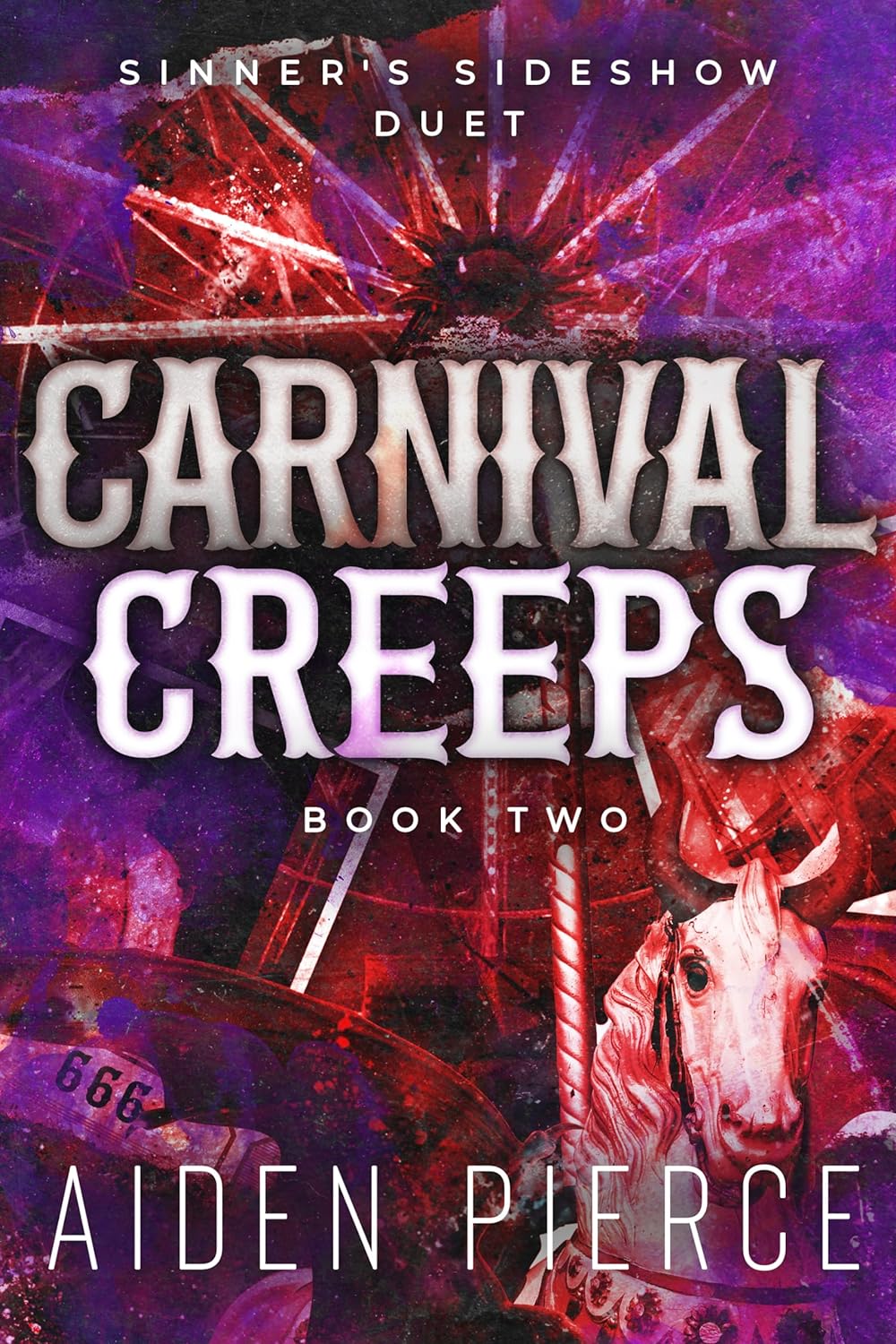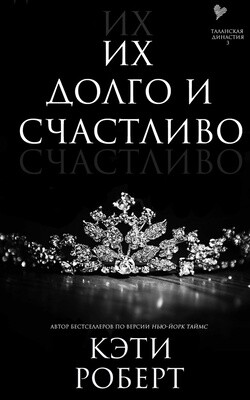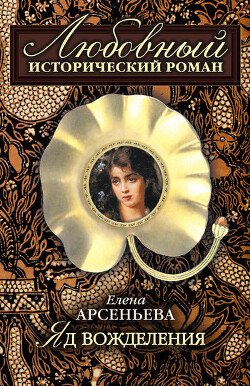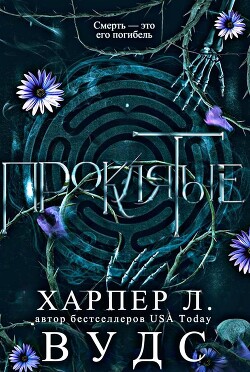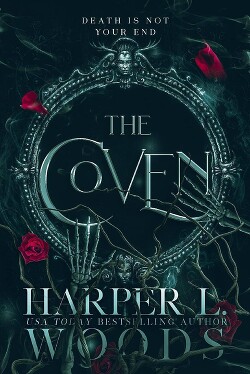Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников

Помощь проекту
Эйзенштейн в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
— Нет миру начала и нет ему конца, — значит, и человеку, значит, он вечен и бессмертен, значит, это формула оптимистическая… Тут нет никаких тайн: единственная великая тайна есть сам человек. В том смысле, что мы сами не подозреваем, что в нас есть и что из нас появится, — поражая нас и внушая нам надежду, что человек все может…
Я сказал ему, что точно так же и буквально теми же словами говорил Горький: и о том, что человек есть единственная тайна, и что он все может.
Эйзенштейн рассмеялся.
— Что вы хотите, он ведь был бродяга, он бродил, весь мир исходил, Россию от края и до края, и ему физически было свойственно чувство масштаба, и разве этот масштаб России не чувствуется в его произведениях? — Он продолжал смотреть и вдруг сказал: — Мексика… В Мексике я испытал такие же чувства. Дух пространства — в конце концов, именно кино способно его выразить… Выразить, а не отразить, именно выразить, выразить.
— Как?
— Представьте себе: беспредельная степь, и в ней одна скачущая лошадь. Или баран остановился в немом и тупом изумлении. Или крохотное облако на бескрайнем небе. И, кроме того, музыка — восточная музыка несет на себе печать не столько времени, сколько пространства, в ней тоже эта обермелодия вечности… Или, скажем, казах или монгол, смотрящий на солнце и прищурившийся уже на все времена. Когда я вижу монгольское лицо, мне кажется, что оно повернуто лицом к солнцу, невидимому нам, но для него всегда присутствующему, вечному… И когда я встречаюсь с казахом или киргизом, я всегда подмигиваю ему, и он отвечает мне тем же — это шифрованная встреча.
Я смотрел первую серию «Ивана Грозного» вдвоем с Эйзенштейном на «Мосфильме» — он сидел за микшером, я несколько поодаль. Он не давал мне смотреть: все время прерывал замечаниями, вроде: «Может, хватит? Пойдем кофе пить…», «И как вы все это можете смотреть!..», «Ну, хватит, хватит…», «Не надоело? Боже мой, вот терпение у человека!»
Я не пойму, почему он так говорил: он несколько раз приглашал (и чтоб обязательно вдвоем) смотреть. То ли он так из озорства, то ли от смущения, то ли — от того и другого вместе, то ли потому, что он уже весь был во второй серии, а первая ему казалась вчерашним днем, и он в самом деле говорил что думал. Картина кончилась, и мы вышли на террасу. Я сказал:
— Если говорить о непосредственных впечатлениях, то я скажу так — надо иметь шекспировские нервы, чтобы все это просмотреть до конца. Не знаю, как вы, но стоит мне просмотреть внимательно один-два, от силы три зала в Третьяковке, и меня охватывает резкая усталость, запас впечатлительности исчерпан, и если я смотрю дальше, то воспринимаю все хуже и хуже и наконец просто ничего не воспринимаю, что бы там ни выставляли. А вы показали по крайней мере три Третьяковских галереи: каждая картина шедевр, честное слово, но сразу столько — это же с ума сойти, хорошенького понемножку. Возможно, я просто не тот зритель, — греки, например, на целый день уходили в театр и смотрели подряд столько, сколько мы и в неделю не способны, то есть я. Этот античный принцип, вероятно, вы и возрождаете, вы — новый, завтрашний художник, так скажем, и вы еще не обрели своего нового зрителя — он появится завтра, когда вас и по крайней мере меня не будет. А пока что, на мой взгляд, эта грандиозная масса не движется, нет внутренней пружины, которая все бы это завертела, пока что это длинный коридор, по которому я хожу и хожу, а конца-края его не видно.
— Пружина появится во второй картине, и все задвигается — тут я только располагаюсь к действию, раскладываю карты. Настоящая игра — сумасшедший азарт! — появится во второй картине. Боюсь только за нее.
— Что так?
— Боюсь — не одобрят. Первая — заказная, ее ждут, мне сказали — я выполнил, скажут — вот и молодец, а вторая, виноват, не того, не слишком ли жарко? Вы заметили — тут вроде бы некоторая закономерность есть у Ивана Васильевича: качели то вверх, то вниз, сейчас пойдут вверх, а в следующей — вниз, увидите. Не знаю — я все это выдумываю, готовлюсь на всякий случай… Тут — просто размах, масштаб, показ, демонстрация, сила, а там — концепция. Я делаю историческую вещь, привожу в движение карусель истории, вот и все мои дела. Дедушка Пимен учил: не мудрствуйте лукаво. А вот мне кажется — без концепции не обойтись, без твоей, собственной, личной концепции, которая тебя греет, тебя лично волнует… Это может совпадать — и даже весьма желательно, и совершенно даже необходимо это объективное соответствие, — но без моего угла зрения ни черта не получится в смысле художественном… Я, конечно, все, что нужно, сделал, изучил, позиция ясная — но когда делаю картину, вторую серию, я ориентируюсь на личное самочувствие: при полном уважении к требуемой точке зрения и всяческом желании ее поддержать. Тут, может быть, возникает расхождение и параллелизм. Мне сказали: картину сделать не ради прошлого, а ради будущего, не сегодняшняя эпоха должна объяснить вчерашнюю — что нам до нее за дело! — а вчерашняя пускай послужит сегодняшней, послужит не за страх, а за совесть. А в случае чего — пускай и за страх, если совесть у тебя хлипка и ты такой церемонный! Понятно?
— Понятно.
Мы пошли пить кофе, а затем идут события всем известные: запрещение картины, постановление, болезнь Эйзенштейна. Впрочем, он заболел, не зная о запрещении. Случился инфаркт, его привезли в Кремлевку, я посетил его там. Сестра предупредила меня: не только не говорить, но не выдать себя неосторожным, никаким, боже упаси, намеком. Впрочем, и не выражать безумного желания увидеть картину, не надо его волновать.
— А не приведет ли это к повторному инфаркту?
Сестра развела руками и неслышно удалилась. Я зашел в палату — он лежал один в небольшой палате, койка широкая, просторная, но он занимал ее всю и, казалось, всю комнату заполнял собой, казался каким-то огромным, и, несмотря на болезнь и бледность — лицо его было несколько липкое от пота, — он весь дышал энергией: глаза, огромный лоб, широкая волосатая грудь, все его туловище, дышавшее под одеялом, было исполнено энергии, силы, готовности к делу. Вынужденностью лежания, прикованностью он напоминал мне льва в клетке — бывает, он сидит где-нибудь в углу или спит там, подальше, и бывает — лежит, развалившись, огромный, просторный, не то чтобы грозный и страшный, а, скорее, добродушный и без всяких агрессивных намерений, но бессознательно демонстрирующий свою силу, ее составные части, которые у него в изобилии, и вот если их собрать и направить, эффект превзойдет всякие ожидания.
Вот такое впечатление производил Эйзенштейн, лицо его дышало силой и желанием действовать, он весь был устремлен вперед, силы и силы в нем чувствовались необъятные, они пребывали в роскошной вынужденной лени, и я неожиданно понял, что из этого огромного резервуара, в котором кипит эта сила, зачерпнута разве что одна какая-нибудь ложка. И все, что осталось, обещает столько, сколько ни нам, ни ему не снилось. Вот как Лев Толстой, который в восемьдесят два года начинал новую жизнь, уйдя из дому. И сделал это не потому, что ему это диктовали вопросы этики или необходимость слово подтвердить делом, а потому, что чувствовал себя способным к делу, потому, что чувствовал свою неисчерпанность. Этот гигант был предназначен для вечной жизни. И вот такая же дышащая жизнью гора лежала передо мной в палате Кремлевской больницы.