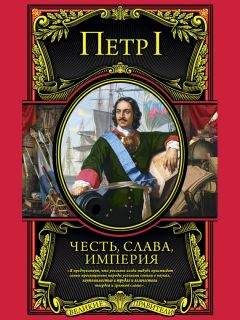Татьяна Щепкина-Куперник - "Дни моей жизни" и другие воспоминания
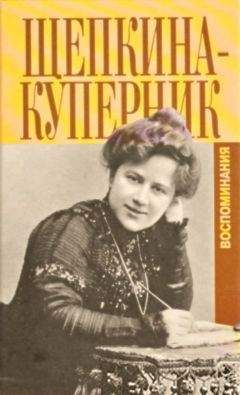
Помощь проекту
"Дни моей жизни" и другие воспоминания читать книгу онлайн
В мае Щепкин приезжал в Петербург на гастроли. В течение этих дней он читал у Толстых, по просьбе Шевченко, «Скупого рыцаря». По словам Шевченко, читал он так, что «слушатели видели перед собой юношу пламенного, а не семидесятилетнего старца… Гениальный актер — и удивительный старик!»
Эти годы и для Щепкина были последними счастливыми годами.
На памятнике Щепкину простая надпись: «Артисту и человеку». О нем как об артисте написано много — его значение как основоположника реализма на сцене известно всем. Но, кроме того, он был большим человеком, близким всему театральному миру, родным по духу каждому искренне любящему искусство. Щепкин оставил нам живое слово, живой пример того, каким должен стремиться стать каждый артист.
Искусство и родной театр он ставил превыше всего на свете и дело свое истинно любил больше себя. Вот несколько красноречивых отрывков из его писем:
«Положение театра нашего до сих пор в виду имеется, а мало лучшего, хотя для меня, собственно, очень хорошо… но ты знаешь, что в отношении к театру я не эгоист… Мне ужасно грустно, я нынешнюю ночь, как ребенок, проплакал, и со всем тем повторяю тебе, что мне лично очень хорошо».
«Жаль, очень жаль, что русский театр не может улучшиться от одних желаний, собственного старания и душевной любви, ибо, признаюсь, театр у меня берет преимущество над семейными делами, и при всем том видеть оный слабеющим день ото дня, клянусь, это для меня хуже холеры…» (письма к Сосницкому).
«Душа требует деятельности, потому что репертуар нисколько не изменился, а все то же, мерзость и мерзость, и вот чем на старости я должен упитывать мою драматическую жажду… Нам дали все, т. е. артистам русским, — деньги, права, пенсионы, и только не дали свободы действовать, и из артистов сделались мы поденщиками. Нет, хуже: поденщик свободен выбирать себе работу, а артист — играй, играй все, что повелит мудрое начальство…»
«У меня было в жизни два владыки: сцена и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; искусство на меня, собственно, не будет жаловаться; я действовал неутомимо, по крайнему моему разумению, и я перед ним прав» (письма к Гоголю).
Это он писал в 1847 году. А вот письмо к сыну Николаю Михайловичу от 1848 года:
«Из артиста делают поденщика; репертуар преотвратительный — не над чем отдохнуть душой, а вследствие этого память тупеет, воображение стынет, звуков недостает… Все это вместе разрушает меня, уничтожает меня… Мне совестно самого себя, совестно выходить перед публику, а она, голубушка, так же милостива ко мне — не видит, что к ней на сцену выходит не артист уже, одаренный вдохновением, посвятивший всего себя своему искусству, но поденщик, неуклонно выполняющий и зарабатывающий свою задельную плату. Нет, ей все равно! Выходит туловище, которое носит название Щепкина, — и она в восторге. Грустно, страшно грустно! Знаешь ли, мне бы легче было, если бы меня иногда ошикали — даже это меня бы порадовало за будущий русский театр; я видел бы, что публика умнеет, что ей одной фамилии недостаточно, а нужно дело».
Замечательные слова, показывающие, что он истинно любил дело больше себя.
Вот что отмечает его современник С. Т. Аксаков: «Жить для Щепкина — значило играть; играть — значило жить. Сцена сделалась для Щепкина даже целебным средством в болезнях духа и тела… искусство, оживляя его нервы, чудотворно врачевало его тело. Много раз и многие были тому свидетелями, что Щепкин выходил на сцену больной и сходил с нее совершенно здоровый…» О характере его игры он пишет: «Роли Щепкина никогда не лежали без движения, не сдавались в архив, а совершенствовались постепенно и постоянно. Никогда Щепкин не жертвовал истиною игры для эффекта, для лишних рукоплесканий, никогда не выставлял своей роли напоказ, ко вреду играющих с ним актеров, ко вреду цельности и ладу всей пьесы: напротив, он сдерживал свой жар и силу его выражения, если другие лица не могли отвечать ему с тою же силой; чтобы не задавить других лиц в пьесе, он давил себя и охотно жертвовал самолюбием, если характер играемого лица не искажался от таких пожертвований. Надобно признаться, что редко встречается в актерах такое самоотвержение».
Интересно сопоставить с этим высказыванием письмо самого Щепкина к Анненкову, в котором он рассказывает ему, как «недавно сам дал себе урок». Вот его содержание. В «Горе от ума» Самарин так удачно выражал все желчные слова на пошлость общества, что Щепкин, в лице Фамусова, одушевился и так усвоил себе мысли Фамусова, что каждое выражение Чацкого убеждало его в сумасшествии Чацкого, и Щепкин, предавшись этой мысли, нередко улыбался, глядя на Чацкого, и, наконец, едва удержался от смеха. Все это было так естественно, что публика, увлеченная, разразилась общим смехом, и Щепкин увидал, что сцена от этого пострадала. Он увидал, что это была ошибка: «Я должен с осторожностью предаваться чувству, а особливо в сцене, где Фамусов не на первом плане. Мы с дочерью составляли обстановку, а все дело было в Чацком». И Щепкин обвинял себя за несдержанность. Это писал человек шестидесяти пяти лет, первый артист московской сцены.
Щепкин принес на сцену живую жизнь, но вместе с этой «жизнью на сцене» он требовал от себя и от других тончайшего технического мастерства.
«Действительная жизнь и волнующие страсти, при всей своей верности, должны в искусстве проявляться просветленными, и действительное чувство настолько должно быть допущено, насколько требует идея автора. Как бы ни было верно чувство, но ежели оно перешло границы общей идеи, то нет гармонии, которая есть общий закон всех искусств… Естественность и истинное чувство необходимы в искусстве, но настолько, насколько допускает общая идея. В этом-то и состоит все искусство, чтоб уловить эту черту и устоять на ней».
Сочетание высокого мастерства с настоящим чувством и переживанием, приведенными из безотчетного порыва в гармонический порядок, и составляло тайну великого искусства его и его учеников. Великая артистка Малого театра М. Н. Ермолова, продолжившая вслед за Щепкиным славу Малого театра, про которую сложилось мнение, что «она играет одним вдохновением», была в то же время величайшим мастером сцены, и когда А. А. Бахрушин сказал ей, имея в виду ее игру, что она «истинная дочь Мочалова», она сказала:
— Ну, какая же его дочь? Разве приемная, но только прошу не забывать притом, что я в то же время внучатная племянница Щепкина и долго жила в его доме.
Этот шутливый ответ ясно показывает, как высоко ценила она переданную ей ее наставницей и советчицей Медведевой щепкинскую традицию.