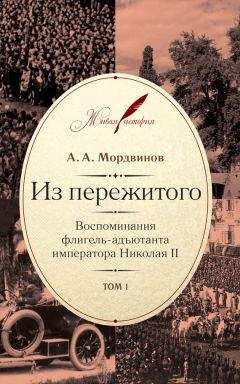Константин Симонов - Так называемая личная жизнь

Помощь проекту
Так называемая личная жизнь читать книгу онлайн
А бывает, что ждешь этой новой предстоящей тебе встречи с передовой больше не слухом, а зрением. Глядя по сторонам дороги, прикидываешь, во что обошлось и нам и немцам то расстояние, по которому ты продолжаешь еще беспрепятственно ехать. Считаешь и вблизи и вдали брошенные пушки и горелые танки - и их и наши - и хочешь, чтобы наших было меньше, а их больше.
Но сегодня было чувство, чем-то непохожее на все, что испытывал обычно. Потому что обычно ехал туда, вперед, к уже знакомым или к еще незнакомым людям, но к живым или считавшимся живыми. А сейчас заведомо ехал к мертвому, не к человеку, а к могиле. Думал при этом и о встрече с Велиховым, но все-таки ехал к могиле.
Может, оттого так и бросалось в глаза то здесь, то там попадавшиеся братские могилы - то сразу видные вблизи дороги, то угадывавшиеся вдалеке. Да, много могил, и почти все - братские, издавна окрещенные этим словом, так сближавшим всех, кто там, под землей, что куда уж ближе! Ближе некуда.
Война - не кладбище, а дорога, на которой почти всегда и всем некогда. Но и свои штатные могильщики есть на этой дороге - похоронные команды; и свои похоронные книги - ведомости потерь, которые пишут в каждом полку ПНШ-4 - четвертые помощники начальников штабов; среди других обязанностей лежит на них и эта - писать, когда убили, и где зарыли, и откуда родом, кому и куда посылать похоронку. Могилы общие, но в каждой рядом с другими, чужими, лежит чей-то собственный, и все чужие, лежащие рядом с ним, тоже для кого-то собственные. Это и есть война в той самой последней и долгой своей тяжести, которая потому и страшней всего, что она долгая. Войну еще, может, удастся укоротить и этим спасти на ней еще чьи-то жизни. А эту уже легшую в землю тяжесть памяти уже не укоротишь - ни письмом замполита, ни посмертной наградой, ничем.
Мысль была простая, вроде бы даже само собой разумеющаяся, но в своей безвыходной простоте она чуть ли не впервые за войну пришла Лопатину в голову.
Вспомнив о посмертных наградах, он додумал об ордене Отечественной войны, переправленном командующим с первой на вторую степень, о котором хлопотал для Гурского их бывший редактор. А за что он ему - этот орден? За то, что его убили? И, если так, то в этом нет здравого смысла, а если нет здравого смысла, то нет и того высшего смысла, про который иногда говорят, напрасно противопоставляя один другому. А если в таком посмертной награде есть здравый смысл, то, значит, она не за то, что убили, а за то, что сделал перед этим, за то, что, прежде чем писать, хотел не с чужих слов, а сам, своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии. И если, жалея мертвого, говорить потом про него, зачем полез туда, и считать, что мог обойтись и без этого, - если б это было верно, то мало смысла и в посмертной награде ему, и даже не мало, а вовсе нет смысла - ни здравого, ни высшего, никакого.
Уже несколько раз за дорогу Лопатин собирался достать из полевой сумки засунутую туда тетрадь с записями Гурского, по всякий раз не мог заставить себя это сделать и только теперь расстегнул сумку.
- Едем верно, все в порядке, карту смотреть не надо? - спросил он у Василия Ивановича, впервые заметив в тетради Гурского краешек засунутой туда карты.
- Если хотите - смотрите, а я два конца по ней сделал, мне не надо, сказал Василий Иванович.
Тетрадь была знакомая, одна из тех двадцати толстых общих черных клеенчатых, в клетку, тетрадей, которые он, словно узнав еще до войны всю ее будущую длину, в нюне сорок первого купил на Арбате в писчебумажном магазине около тогда еще не разбитого бомбой Вахтанговского театра. Пятнадцать этих тетрадей было уже исписано; эту, шестнадцатую, когда он после госпиталя снова стал жить у себя на квартире, увиден у него на столе, забрал Гурский, семнадцатая, не дописанная до конца, лежала у Ники, а три чистые, последние, оставались дома. Так и лежали там на столе, под рукой.
В эту поездку отправился, не взяв тетради. Хотел зайти взять, и даже собирался объяснить это Нике, но не зашел и не взял. Да, хорошо бы, если б этих трех последних тетрадей хватило до конца войны!
Подумал так, словно одно было связано с другим, и, усмехнувшись нелепости этой мысли, наконец заставил себя открыть тетрадь. Сначала пробежал глазами первые десять страниц с очень короткими записями - в одну-две строки: судя по названиям мест, это были заметки для памяти, по которым Гурский диктовал стенографисткам свои корреспонденции с Карельского перешейка. Потом ими несколько неизвестно для чего оставленных чистых страниц, и сразу без всяких предварительных заметок начинался плотно и неразборчиво написанный текст того, что Гурский собирался передать но телеграфу, вернувшись с того берега Шешупы.
Это была одна из тех корреспонденции, весь смысл которых - в собственном присутствии пишущего при всем происходящем. Никаких соблазнительных преувеличений или смещений во времени не было. Наоборот, говорилось, как кругом тихо, даже неожиданно тихо; хотя первые солдаты переправились на тот берег, в Восточную Пруссию, еще сутки назад. И только после этого начинались записи в настоящем времени: "Подходим к берегу, сидим вместе с капитаном на самом краю, тихонько зачерпываем руками довольно холодную для августа воду; сидим и ждем, когда возвратится с того берега, из Пруссии, надувной плотик, на котором старшина повез туда термоса, сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла".
И так до конца, до записей разговоров с солдатами, сделанных на том берегу, и до самой последней фразы: "Записываю их мысли, откладывая на потом - собственные. Капитан торопит с обратной переправой, если не собираюсь остаться тут еще на сутки. Говорит, что в светлое время переправляться никому не разрешено..."
Капитан торопит... Никого он уже больше не торопит, этот капитан...
Лопатин вынул из тетради карту; вдоль тонкого синего изгиба реки шли крупные черные точки и толстые тире государственной границы с Германией; недалеко от изгиба Гурский поставил карандашом крестик, обозначив им местопребывание командного пункта полка. На обороте карты, тоже карандашом, было написано: "Появление перед Берлином неприятельской армии невозможно". Мольтке-младший. 1914 год".
Наверно, Гурскому по дороге к границе пришла на память эта цитата для будущей корреспонденции.
Сверять карту с дорогой Лопатин не стал, решив положиться на Василия Ивановича. Сунув тетрадь и карту в полевую сумку, он несколько минут ехал закрыв глаза, чтоб отдохнули от чтения на ходу.
А когда снова открыл глаза и надел очки, увидел по сторонам дороги не то, что до этого выбирал глаз, а обыкновенную здешнюю природу: поля и пригорки; кое-где обнажившийся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны; вдали виднелись перелески и небольшие хутора в несколько построек. На полях лежали вывернутые из песчаной почвы некрупные валуны.