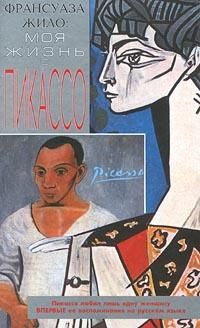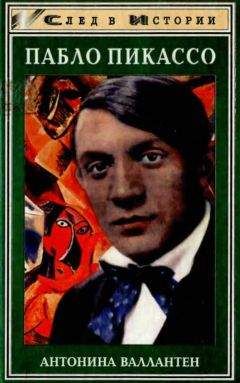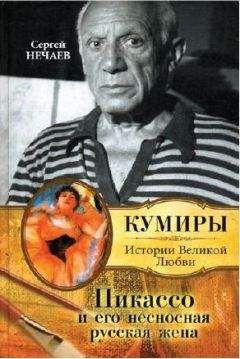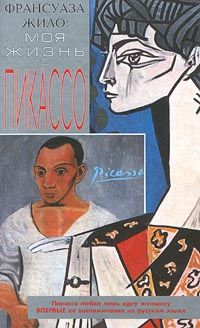Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса. Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители
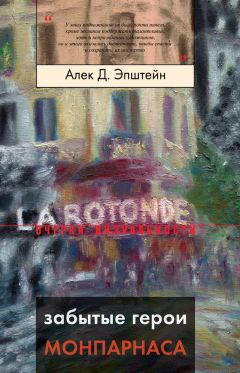
Помощь проекту
Забытые герои Монпарнаса. Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители читать книгу онлайн
Ил. 4. Обложка книги Михаила Германа «Парижская школа» (М.: Слово, 2003)
Не могла быть разорванной и эмоциональная связь этих художников с Францией, в свете чего представляются совершенно верными слова видного филолога и коллекционера книг, рукописей и произведений искусства российской эмиграции Рене Герра: «Ностальгия по России – удел русских изгнанников в Париже – была горькой и открытой; а ностальгия по Парижу в Советской России – удел репатриантов – была горькой и потаенной (для Фалька, Альтмана, Штеренберга, Редько, Глущенко)»[5]. Это едва ли верно в отношении Николая Глущенко, с 1926 года на протяжении десяти парижских лет сотрудничавшего с советской разведкой и просившего вернуть его в СССР поскорее[6], но безусловно верно в отношении остальных.
Тем более это верно в отношении не названных Рене Герра художников Василия Шухаева и Амшея Нюренберга. В. И. Шухаев был репрессирован по обвинению в шпионаже в 1937 году, спустя всего два года после возвращения в Советский Союз, и провел десять лет на Колыме (из них последние два года – в статусе вольнонаемного художника – оформителя спектаклей в Магаданском доме культуры). Какой бы трудной ни была жизнь русского художника-эмигранта во Франции в первой половине 1930-х годов, она все же не сравнима с рабским трудом заключенного ГУЛАГа на лесоповале возле рудника Кинжал где-то в окрестностях поселка Оротукан в четырехстах километрах от Магадана, где В. И. Шухаев провел весь 1938 год.
Амшея Нюренберга в то время, да и в последующие годы, неоднократно «прорабатывали», и из страха ареста он сам уничтожил свои полотна, созданные во Франции[7], но судьба оказалась к нему милосерднее – в ГУЛАГ он не попал. Как верно указывал Александр Георгиевич Ромм (1886–1952),
Нюренберг… проникся принципами новой французской живописи и остался им по-своему верен в последующие десятилетия. Он принадлежит к числу тех, кто в первые годы революции содействовали проникновению французского искусства в СССР и поддерживали его влияние, сильно сказывавшееся до начала 30-х годов[8].
Спасся Амшей Нюренберг тем, что создавал одно за другим полотна на ленинскую тему, но почему-то Ленин у него всегда оказывался в Париже – «Ленин у газетного киоска в Париже» (1932), «Ленин на набережной Сены» (1935), «Ленин в Люксембургском саду» (1931), «Ленин у стены Коммунаров» (1946), «Ленин в парижском кафе» (1953)… Как метко заметила внучка художника, посвятившая многие годы жизни сохранению и изучению его наследия, фактически А. М. Нюренберг шел на художественную мистификацию: он хотел, и живя в Советском Союзе, рисовать Париж, но во избежание нареканий в низкопоклонстве перед Западом и обвинений в космополитизме вклеивал в Париж образ Ленина, создавая своего рода коллаж[9]. В своих написанных уже в более вегетарианские времена мемуарах он назвал Париж городом, «где учился искусству, страдал и созрел как художник»[10].
С другой стороны, и без всякой связи с отечественными живописцами, и в советское, и в постсоветское время много писали о таких мастерах, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни; позднее к ним прибавился и Марк Шагал.
Большая выставка Пабло Пикассо, творчество которого активно пропагандировал Илья Эренбург (1891–1967), прошла в 1956 году, став совершенно особым явлением не только художественной, но и общественной жизни[11]; позднее, в 1962 году, художник получил Международную Ленинскую премию, публикаций о нем с тех пор вышло на русском языке очень много, как оригинальных, так и переводных; издавались и представительные альбомы его живописи и графики. Облегчало дело то, что отдельные ранние работы Пабло Пикассо были куплены российскими коллекционерами еще до революции; ныне они представлены в постоянных экспозициях ГМИИ и Эрмитажа и репродуцировались бессчетное число раз, став широко известными.
Сказанное верно и в отношении ранних работ Анри Матисса, большие ретроспективные выставки которого прошли в ГМИИ и в Эрмитаже в 1969 (к столетию со дня его рождения) и в 1993 годах. В Советском Союзе вышел целый ряд книг об этом художнике, включая богато иллюстрированное двухтомное издание Луи Арагона[12].
М. З. Шагалу довелось в 1973 году прилететь в Москву на открытие персональной выставки в Третьяковской галерее, его с почестями принимала тогдашняя министр культуры Е. А. Фурцева, и с тех пор он прочно занял свое место в истории искусства, выстраиваемой художественно-просветительскими институциями в стране. Выставка, организованная Третьяковской галереей в 2005 году к 120-летию со дня его рождения, называлась «Здравствуй, Родина»; спустя пять лет, в 2010 году, Третьяковская галерея провела его третью большую выставку.
С Амедео Модильяни сложнее – в музеях СССР не было ни одной его картины, однако книга о нем, написанная Виталием Виленкиным (1911–1997), вышла в серии «Жизнь в искусстве» еще в 1970 году. За исключением трех небольших рисунков, работ Модильяни нет в музеях России до сих пор, хотя «Портрет Пабло Пикассо», написанный им в 1915 году маслом на бумаге, наклеенной на картон, был приобретен российско-украинским бизнесменом Константином Григоришиным и в 2007 году несколько месяцев экспонировался в Эрмитаже; тогда же в ГМИИ прошла первая и пока единственная в российской музейной истории монографическая выставка этого художника. Спустя еще шесть лет «Потрет девушки в черном платье», созданный Амедео Модильяни в 1918 году, экспонировался в ГМИИ в рамках выставки коллекции Вячеслава Кантора «Отечество мое – в моей душе».
Однако и Анри Матисс, и Пабло Пикассо, и Амедео Модильяни, и Марк Шагал воспринимались как уникальные самородки, в публикациях об их творчестве почти не воспроизводились репродукции работ их современников. Если о фовистах и кубистах все же что-то писали, о Морисе Утрилло даже вышла целая книга[13], то о жизни и творчестве таких художников-экспрессионистов, как Михаил Кикоин, Моисей Кислинг, Хаим Сутин, Пинхус Кремень, Юлиус Паскин, Леон Вейсберг, Иссахар Бер Рыбак, не говоря уже о других, менее известных, почти не упоминали. И это несмотря на то что, цитируя Ж. – П. Креспеля, «в „Улье“, если не считать нескольких независимых приверженцев кубизма, слывших еретиками, признанным идеалом оставался экспрессионизм»[14].
Не было практически никакой литературы и о скульпторах «Парижской школы» Осипе Цадкине, Жаке (Хаиме-Якове) Липшице, Леоне (Льве) Инденбауме, Оскаре Мещанинове и Хане Орловой. Имена Давида Видгофа и Иехезкеля Киршенбаума, Моше Кастеля и Давида Гарфинкеля (David Garfinkiel, 1902–1970), Анри Хайдена (Henri Hayden, 1883–1970) и Абрама Минчина и других достойных живописцев остаются в целом малоизвестными и поныне, хотя они имели сравнительно похожие биографии, жили и работали там же и тогда же, когда создавали свои шедевры Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Марк Шагал.
В последние двадцать пять лет происходит медленное встраивание этих художников в релевантный общественно-культурный контекст, хотя изучение историками искусства наследия «Парижской школы» в России идет медленно: кроме биографий Модильяни, Пикассо и Шагала, о которых появилось множество новых публикаций, за двадцать постсоветских лет монографические книги-альбомы вышли лишь о двух художниках: Хаиме Сутине[15] и Владимире Баранове-Россине[16]. Кроме того, видный искусствовед Андрей Толстой (1956–2016) подготовил серию альбомов, представляющих коллекцию Дмитрия Орлова, в которую вошли и альбомы живописцев «Парижской школы» Александра Альтмана (Alexandre Altmann) и Исаака Пайлеса (Isaac Païles, 1895–1978)[17]. При всей неоспоримой важности этой работы, ограничения, связанные с представлением художника исключительно по работам, находящимся в одном недавно возникшем собрании, очевидны. Об остальных художниках, в лучшем случае, появились лишь отдельные статьи, причем о некоторых из них первые публикации на русском языке появлялись в практически недоступном в России малотиражном израильском альманахе «Евреи в культуре русского зарубежья» (в связи с кончиной в сентябре 2015 года его бессменного издателя и редактора Михаила Пархомовского издание этого альманаха в настоящее время прекращено) и его последующих модификациях.
На английском и французском языках публикаций, конечно, больше, и в целом сложившийся корпус литературы довольно значителен. На рубеже 2000–2001 годов в Музее современного искусства города Парижа состоялась большая выставка, посвященная искусству «Парижской школы», к которой был издан богато иллюстрированный сборник статей, написанных ведущими французскими специалистами[18]. В настоящее время интерес к художникам «Парижской школы» достаточно высок, о чем свидетельствуют, например, аукционы, полностью или в значительной мере посвященные их работам, начиная с февраля 2006 года регулярно проводимые парижским аукционным домом Artcurial (к концу 2016 года таких аукционов прошло уже более двадцати); с этим аукционным домом сотрудничает и видный эксперт по «Парижской школе» Надин Нешавер (подготовленный ею энциклопедический словарь «Еврейские художники Парижской школы, 1905–1939» выдержал уже несколько изданий). Несмотря на немалое количество публикаций, в том числе каталогов этих аукционов, целый ряд базовых вопросов остаются неразрешенными, а о людях, спасших и сохранивших это искусство, без которых до нас едва ли дошли бы работы этих художников, публикаций почти нет, причем не только по-русски – их нет вообще. Над каждой книгой и статьей о живописцах и скульпторах «Парижской школы» нужно сидеть, подобно рыбаку у городского водоема, надеясь, что удастся выудить значимые детали, восстанавливающие мир художественного Монпарнаса как целостное общественно-художественное явление.