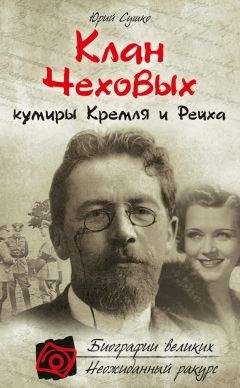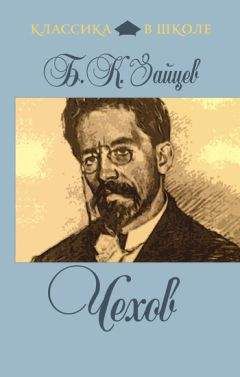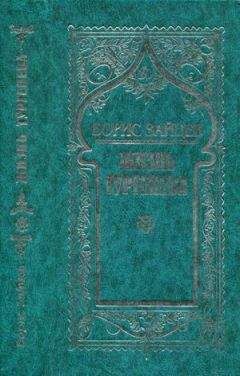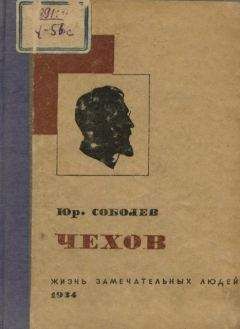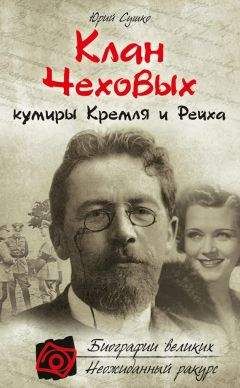Чехов. Литературная биография - Борис Константинович Зайцев
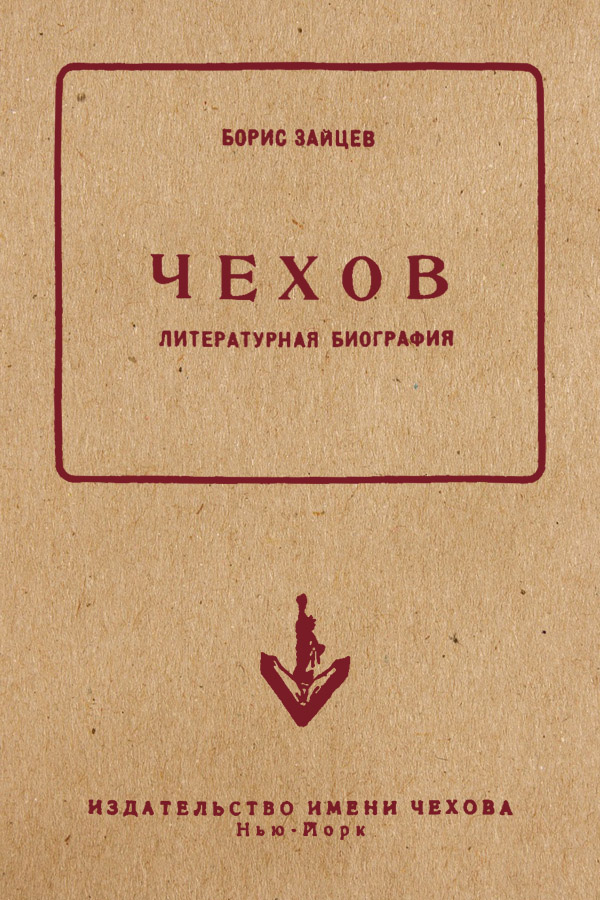
Помощь проекту
Чехов. Литературная биография читать книгу онлайн
После «Архиерея» ему оставалось написать только «Вишневый сад». Из событий более мелких отмечает летописец такие: 1) Отказ от звания почетного академика, из-за неутверждения Горького. Короленко и дух времени увлекли вовсе не простодушного Чехова на некую демонстрацию. Вместе с Короленко «заступился» он за Горького, «обиженного» тем, что его не утвердило правительство, против которого он вел подпольную и беспощадную войну. А быть почетным академиком даже у врагов всё же приятно. («Ты полагала, что Горький откажется от почетного академика? Откуда ты это взяла? Напротив, повидимому, он был рад»). 2) Посещения Чеховым Толстого, жившего тогда в Крыму, в Гаспре, и тяжело заболевшего. В это время Чехов вполне уже его почитал, хотя свободу высказываний сохранял — конец «Воскресения» не нравился ему, он об этом прямо и пишет. В общем же Толстой для него теперь Синай. Он даже волнуется, собираясь в Гаспру, тщательней одевается.
Но, конечно, всё это второстепенно. Первостепенна сама жизнь, которой остается так уж мало. В жизни этой любовь и литература.
Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни, всё устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное — когда можно к ней, в эту Москву. «Три сестры» уже написаны и давно идут, но «в Москву, в Москву» так и остается, не для сестер, а для него самого.
Ольга Леонардовна это чувствует, иногда тоже угрызается. «Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести»… (а что его жизнь теперь испорчена, это ничего. Но вообще в этом весь Чехов: отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто; он как-нибудь примостится в жизни, было бы ей хорошо).
Письмо всё трогательно по нежности. «В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего» (как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые, верные слова любви). Хочется ему и в Италию. «Нам с тобой осталось немного пожить, молодость пройдет через 2–3 года (если только ее можно еще назвать молодостью)» — это написано в январе 1903 года: не только «молодости», а самой жизни оставалось полтора года.
Может быть, потому, что любил ее и был с ней так ласков, Ольга Леонардовна считала, что характер у него отличный. Он с этим несогласен. «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив, и пр., пр., но я привык себя сдерживать» — вот признание интересное, для мало знающих Чехова и неожиданное, для того, кто внимательно всматривается в жизнь его — не удивляющее. Как никак, был он сыном Павла Егорыча, и у него дед «ярый крепостник». Это с одной стороны. С другой: за недолгую жизнь он немало над собою потрудился, как трудился и над писанием своим (почему и шел в гору), как трудился в Мелихове над садом, как трудился и боролся с невежеством, болезнями, эпидемиями. Теперь это всё отошло. Впрочем, кое-что и осталось: даже в Ялте, больной, утомляясь, иногда раздражаясь, всё же хлопочет он и о чахоточных, о санатории в Ялте, о библиотеке в Таганроге. Сколько писем написано туда, какому-то Иорданову, сколько послано книг, сколько с этим хлопот!
Жизнь сердца именно теперь, на закате, может быть и особенно обострена. Как бы ни старалась, как бы временами ни угрызалась Ольга Леонардовна, всё-таки не могла изменить соотношения: она молодая, здоровая, обаятельная — Антон Павлович, при всей своей славе — полуинвалид. «Ты калека», сказал ему, от великого ума Остроумов, осмотрев и выслушав — и посоветовал жить зимой под Москвой, а не в Ялте.
Он в Москву иногда вырывался, именно зимой. Приводило это к тому, что приходилось безвыходно сидеть дома, или выезжать чуть ли не в карете. Тут опять разница с женой огромная.
Вот сидит он у себя в московской квартире, вечер. У него Щепкина-Куперник, кума, веселая, живая, такая, как бывала в Мелихове. Ольга Леонардовна собирается в концерт, там читает. За ней заезжает Немирович, во фраке, белом галстухе, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в бальном платье, возбужденная и духовитая — Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает, будто присутствует, а потом вдруг «без всякой связи с предыдущим:
— Пора, видно, кума, помирать».
* * *
«Архиерей» не был последним произведением Чехова. Он написал еще бледную «Невесту» — для того же Миролюбова и «Журнала для всех», и, наконец, «Вишневый сад»: это уж urbi et orbi[10], сперва для России, а потом чуть ли не для всего света.
Пьесу эту писал трудно, почти мучительно, осенью 1903 года. Она росла неторопливо (зачалась много раньше — цветущие вишневые ветки ломились в отворенное окно, так мерещилось ему). Потом стало прирастать и другое, выросло воистину прощальное произведение. Всё оно, разумеется, не надумано, а органично, из недр, так само и вышло. Кончалась жизнь Антона Павловича, кончалась огромная полоса России, всё было на пороге нового. Какое будет это новое, никто тогда не предвидел, но что прежнее — барски-интеллигентское, бестолковое, беззаботное и создавшее всё же русский XIX век — подходило к концу, это многие чувствовали. Чехов тоже. И свой конец чувствовал.
Сам он к вишневым садам не принадлежал, но воздухом их надышался еще во времена Бабкина и Киселевых. Три лета, живя там дачником, слышал разговоры о заложенном имении, о процентах, угрозах продажи за долг, а том, как достать денег. Место в Банке для Гаева в конце «Вишневого сада» находилось в Калугe, туда он и уехал из Бабкина.
Чехов назвал свою пьесу комедией («местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не