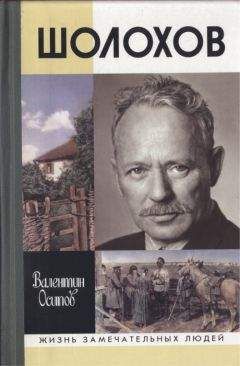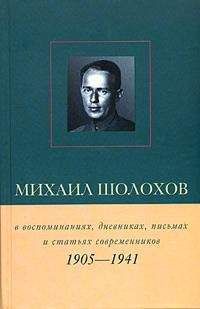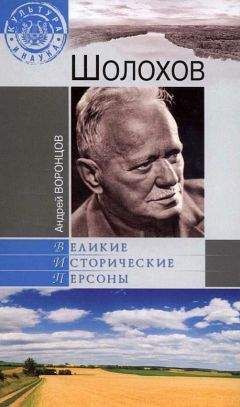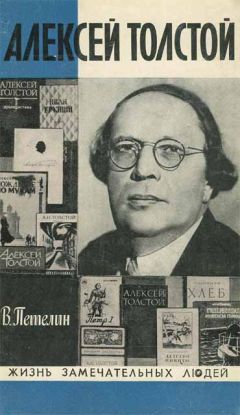Виктор Петелин - Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
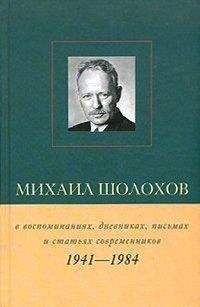
Помощь проекту
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг. читать книгу онлайн
Военные нашли решение, которое показалось мне справедливым при всей своей причудливости: оформили задним числом мою личную мобилизацию с первого дня реального моего пребывания на армейской службе, и с той же даты, когда этот приказ оформлялся, отдали приказ о моей демобилизации. Так вопрос был разрешен, и я начал работу в «Комсомольской правде», в должности заведующего отделом литературы и искусства. Поначалу я заведовал самим собой: отдел только из меня и состоял. Позже появились секретарь, а затем и заместитель заведующего. Через год службы был я переведен на должность заместителя заведующего таким же отделом в «Правду» (впоследствии должность была переименована: заместители стали консультантами). В этом качестве я пребывал тридцать два с половиной года, до выхода на пенсию. Совмещалось это беспрепятственно с постоянной работой по линии творческих организаций – писательской, журналистской, кинематографистов.
Так мирная профессия вернула себе то, что полагала своим достоянием.
Встреча с Шолоховым, с этим писателем и – я подчеркиваю – человеком – была моим счастьем.
Началом был 32-й год. Был я тогда еще молодым редактором и работал в том издательстве, которое позже стало называться «Художественная литература», а тогда это был Гослитиздат. Вот там мне и поручили редактировать третью книгу «Тихого Дона». Дело в том, что писатель сдал в издательство сразу и третью книгу «Тихого Дона» и первую книгу «Поднятой целины». «Поднятая целина» пошла другому редактору, а мне достался «Тихий Дон». Так появилась книга, на титульном листе которой значится 1933 год. И есть там автограф:
«Дорогому т. Лукину с благодарностью за работу над книжкой и с этакими наитеплейшими дружескими чувствами.
М. Шолохов31-Х-33».
Так началось. Потом было редактирование вместе с ним первой и второй книг «Тихого Дона». Он все редактировал заново, потому что роман подвергался очень большим искажениям в свое время, когда печатался в журналах. Следующей нашей работой, после первых двух книг, было иллюстрированное издание «Тихого Дона». Подряд, год за годом, вышли три книги. Четвертая еще не была автором закончена. А незадолго перед войной, в начале того года, когда война началась, читатели получили и ее. Тогда часто выпускали однотомники, издания, в которых при использовании двухколонного набора умещалось все произведение в целом. Художник успел проиллюстрировать четвертую книгу после тех, которые уже вышли. Я расскажу позже, что тогда произошло, почему эти превосходные рисунки не смогли быть опубликованы в однотомнике под его фамилией. Пришлось приглашать гравера, чтобы из рисунков сделать гравюры. Так появилась книга, в которой не указана фамилия автора рисунков.
В этом издании я принимал самое горячее участие – написал к нему предисловие. Вместе с Михаилом Александровичем мы сделали для однотомника словарик донских слов и оборотов речи. Если ко всему этому прибавить фанатическую мою любовь к книге и ее автору, может быть, читатель поймет дикий мой поступок: когда война началась и я ушел с ополчением на фронт, – в своем рюкзаке я взял с собой вот эту толстую книгу… Сначала мы были саперами, копали противотанковые рвы, и во время пеших переходов таскать книгу было тяжеловато. Потом, когда началась работа в политотделе и мы с напарником развозили по передовым частям размноженные нами сводки Информбюро, а еще позже работали в армейской газете, книга находилась уже в более благоприятных условиях, ездила с нами в автобусе-типографии. А то ведь сперва приходилось ее на себе таскать… Однако расстаться с этой книгой – мой читатель это поймет – я был просто не в состоянии.
Мне часто задавали вопрос: «Вот вы редактировали Шолохова. Что такое – редактировать Шолохова? Что это было?» Приходится говорить так: бывает работа с молодым писателем такая, что ее можно уподобить лепке из глины, податливой, мягкой, которой можно придать форму нужную, необходимую. А тут совершенно другое. Шолохов сдавал в редакцию – в журнал, в издательство – рукопись тогда, когда считал ее абсолютно законченной. У меня в голове всегда только одно сопоставление: работу с ним над его рукописью можно сравнить уж никак не с приданием формы глине, а со шлифовкой драгоценного камня. Нужна другая редакторская специальность, потому что можно только кое-где положить очень небольшой, тонкий штрих, чтобы грань засверкала другими цветами.
Да ведь и началось у нас в значительной мере со странной, может быть, с точки зрения редактора, работы: мне многое приходилось просто восстанавливать по сравнению с тем, что было уничтожено в журнальных текстах, выступать как бы в роли реставратора. И в то же время Михаил Александрович наметил и другой путь для редактирования: он старался избавиться от перенасыщения языка в своем произведении местными речениями. Тут тоже я старался помочь ему, как мог. Чтобы прояснить сущность этой работы и предостеречь о сложности в подходе к ней, в ходе дальнейших моих воспоминаний я расскажу о беседе писателя со шведскими студентами во время его пребывания в Швеции после вручения ему Нобелевской премии. Благодаря усилиям одного работника нашего посольства (его фамилия – Рымко) удалось сохранить и в «Литературной газете» напечатать запись этой беседы. Там драгоценнейшие свидетельства. А перед этим я хотел бы остановиться на вопросе, который иногда возникает в устных и печатных выступлениях некоторых литераторов: прибавила ли Нобелевская премия что-нибудь к популярности автора «Тихого Дона» во всем мире? И была ли эта премия желанием, как некоторые склонны утверждать, потрафить Советскому Союзу и чуть ли не коммунистической партии? Относительно популярности надо отметить так: конечно, прибавила. Немногие достигают такой степени признания. Мне довелось видеть воочию нобелевские празднества там, в Швеции. Видел я всю торжественную церемонию, смог почувствовать всю атмосферу праздника. Кстати, и о том, не было ли присуждение престижнейшей премии стремлением угодить Советскому Союзу. Думаю, что скорее – наоборот… Как он отнесся сам? Когда он ритуально благодарил за присуждение премии, он без чрезмерной мягкости заметил, что, по совести сказать, думает, что это могло произойти на тридцать лет раньше. Эффект от встречи с ним был в Швеции колоссальный. Пресс-конференция с ним по числу присутствующих превзошла все предыдущие. Любопытно отметить, что перед ним там была Софи Лорен…2
Почему я думаю, что вряд ли присуждение премии Шолохову было вызвано желанием угодить Советскому Союзу? Мне кажется, эту премию рассматривали скорее как укол Советскому Союзу. Эта книга рассматривалась ведь в советских кругах как «малоприемлемая», не сказать – диссидентская, но, во всяком случае, очень уж острая, такая, что вызвала явное неудовольствие: ее ведь разносили и после публикации в журнале и когда роман был окончен. Даже тот человек, о котором теперь говорят «Сам», и тот не выразил восторга по поводу финала: ему, очевидно, хотелось, чтобы Григорий пришел к определенному решению, но в то же время он понимал – это, конечно, догадки! – что шутить со всем этим не следует, понимал ту пользу, которую может принести признание Шолохова, и поэтому присуждение советской премии последовало за публикацией романа немедленно. А теперь посмотрим, в каком окружении предстал лауреат премии Нобелевской. Лауреаты русские: Бунин (эмигрант), Пастернак и вот Шолохов… Вряд ли все это делалось, чтобы советскому государству потрафить.