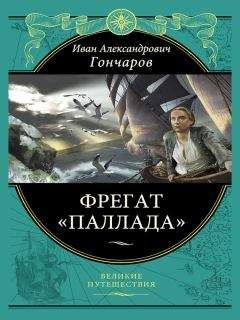Георгий Калиняк - Герой советского времени: история рабочего
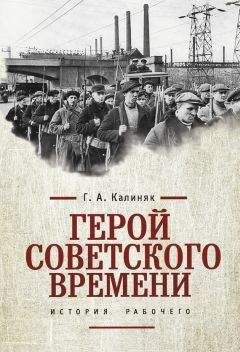
Помощь проекту
Герой советского времени: история рабочего читать книгу онлайн
Ближе к осени пропадали в зарослях дикой черной смородины. Перед самыми заморозками лакомились черемухой. Она тогда теряет оскомину и становится сочной и сладкой. Поздней осенью, когда березы отзвенели золотой листвой, а вода в реке становилась затаенной и молчаливой, к нам приходили пароходы за пшеницей. В Зырянке были большие амбары, куда свозили со всей округи зерно, сдаваемое по продразверстке.
Пароходы, как в сказке, выплывали гордыми лебедями из-за поворота реки и, уходя, скрывались за ним. Это было плавающее чудо, которое манило за собой и обещало в неведомых далях большие чудеса.
Зимой было хуже. Коньков и лыж у нас не было. Делали самодельные санки, а вместо железа полозья обмазывали коровяком[4] и поливали водой. На морозе все это становилось крепким и гладким. И на таких санках можно было кататься с крутых речных берегов.
Вечером к нашей хозяйке приходили соседки со своей куделью и прялками и при свете лучин занимались прядением. У многих были самодельные ткацкие станочки, на которых из этой пряжи ткали холсты. Весной холсты расстилали на траве, и солнце хорошо отбеливало их.
Спать ложились рано. Кто на деревянных кроватях или нарах, а любители погреться – на лежанках.
Хозяйка, у которой мы жили, сорокалетняя женщина, была вдова. Муж погиб на германском фронте. У нее было восемнадцать детей, но в живых осталось только трое: две дочери и семнадцатилетний сын – глава семьи.
Вообще в Сибири рожали много детей, но выживало мало. Медицина отсутствовала. Зимой в деревню забегали волки. В тайге было много этих беспощадных разбойников.
Летом в лес ходили в валенках из опасения быть укушенным змеей, которых было много в тайге. Ближайшая деревня так и называлась – Змеинка, там было особенно много этих пресмыкающихся.
Деревенскую жизнь зимой разнообразили свадьбы и Масленица.
В Масленицу целую неделю катались на разукрашенных лошадях, запряженных в розвальни[5]. Всю неделю в деревне стоял [шум] и гам. Звенели песни. В конце недели зажигали большие костры, в которых жгли чучела надоевшей зимы, и прыгали через костры.
На свадьбу к хозяйке двора собиралась вся близкая и далекая родня. Любители зрелищ заранее занимали все подходы к свадебному двору, ожидая молодых из церкви.
В Зырянке была первая моя школа. Одна учительница обучала школьной премудрости ребят разного возраста.
4Зимой 1921 года я оказался в Томске у братьев и сестры, которые к этому времени перебрались туда из Мариинска.
Большой губернский город Томск стоял на холмистом берегу полноводной Томи в ста двадцати километрах от Сибирской магистрали. От станции Тайга к нему была проложена железнодорожная ветка. Тут я впервые увидел многоэтажные дома и татарский район с мечетями.
Мы жили в домике, стоящем на холме, у подножья которого протекала речушка Ушайка. В летнее время это был просто широкий мелководный ручей. Но весной Ушайка разливалась так бурно, что к нам домой можно было попасть только кружным путем.
Недалеко от нас кто-то держал ишака, и живущие вокруг могли каждый вечер наслаждаться его концертами. А может быть это [была] ишачья вечерняя молитва, в которой он благодарил судьбу за прожитый день, за то, что хозяин был добр, и его палка редко гуляла по ишачьим бокам.
В то время Томск, как большинство русских городов, на три четверти был деревянным, с множеством частных домов, владельцы которых отгораживались от улиц и соседей заборами.
Это обстоятельство послужило хорошую службу тем, у кого не было дров. С наступлением темноты на улицах стоял треск. Это выламывались заборные доски. Подвоз дров был плохой и многие, в том числе и мои братья, занимались заготовкой заборной древесины, к огорчению хозяев оград, и к удовольствию заготовителей даров пана[6]. Мои старшие братья также занимались этим промыслом.
Летом начинала гореть тайга, и город на недели оказывался в дымном плену. Скверы заполнялись белками, спасавшимися от огня.
По-прежнему было плохо с продовольствием. Иногда на паек выдавали одну рыбу. Случалось, день-другой, кроме кипятка с сахарином, в желудке ничего не было. В те годы в Томске вместо сахара широко применяли сахарин. Достаточно было в кружку бросить крупинку сахарина, как напиток становился сладким. Этим снадобьем торговали китайцы, привозя его контрабандой. Говорили, что сахарин вреден для здоровья, но его активно применяли за чайным столом. Когда выдавали муку, наступал настоящий праздник. Я превращался в кулинара-кондитера и пек лепешки прямо на железной времянке-буржуйке.
Жизнь с полупустым желудком не мешала братьям мечтать и спорить о будущем нашей Родины. С тех пор память сохранила: военный коммунизм, продразверстка, НЭП, продналог, Черемховский угольный бассейн. Тогда это были полутаинственные понятия, и только значительно позже я понял их настоящее значение и глубину.
В Томске я приобщился к чтению. Читали все, что попадется под руку. Во всяком случае «Жизнь» и «Милый друг» Мопассана я прочитал на пять лет раньше, чем «Робинзона Крузо».
По вечерам читать было трудно, лампочки горели вполнакала. Но я ухитрялся заниматься чтением. На стол ставил табуретку и, забравшись на такую пирамиду, оказывался у самой лампочки.
Моим воспитанием никто особенно не занимался. Мы, дети тех огневых лет, сами воспитывали себя.
В это время неведомым для меня путем стало известно о том, что самый старший брат Михаил вернулся на Родину из немецкого плена. В 1914 он был мобилизован в армию и в первых же боях попал в плен. Вернувшись, он обосновался в Белоруссии в городе Витебске. Узнав из наших писем, что в Томске голодновато, он настойчиво предлагал приехать к нему нескольким из нас. На семейном совете было решено, что в Витебск поедут трое, в том числе и я.
Я с нетерпением ожидал отъезда. Нетерпение подогревалось разговорами о том, что там растут яблоки и их едят, как картошку. Я не представлял этих яблок, но они мне снились то в виде кедровых шишек, продающихся на рынке, то в виде черемухи с картошку величиной.
Осенью 1922 года, после долгой, нудной дороги мы наконец прибыли в этот сказочный край. И действительно на деревьях висели краснобокие яблоки. Была пора созревания плодов.
Витебск – старинный белорусский город. Кроме белорусов в нем проживает много русских, евреев и поляков. Город надвое разделяет река Западная Двина и соединяет один мост, если не считать железнодорожного. Тогда по Двине ходили неуклюжие пароходы с высокой, фабричного вида трубой на корме. Всю весну по реке шли плоты в Латвию и на витебские деревообрабатывающие заводы.