Энн Эпплбаум - ГУЛАГ
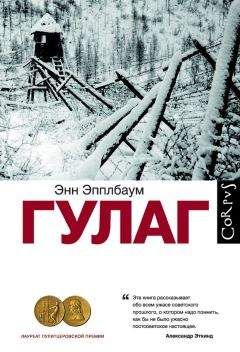
Помощь проекту
ГУЛАГ читать книгу онлайн
Как и ГУЛАГ, дореволюционная система лишения свободы служила не только целям наказания. Правители России старались использовать заключенных и ссыльных (как уголовников, так и политических) для решения экономической проблемы, стоявшей на протяжении столетий: из-за малонаселенности востока и севера страны России трудно было разрабатывать свои природные ресурсы. Поэтому еще в XVIII веке людей начали приговаривать к принудительному труду – каторге (от греч. κατείργω – принуждать). Каторга имела в России долгую предысторию. В начале XVIII века Петр Великий использовал крепостных крестьян и взятых под стражу преступников для постройки дорог, крепостей, мануфактур, судов и самой столицы – Санкт-Петербурга. В 1722 году он издал указ об отправке преступников с женами и детьми в Восточную Сибирь на серебряные рудники Даурии[28].
В свое время такое использование Петром принудительного труда считалось большим экономическим и политическим достижением. История сотен тысяч крепостных, работавших на постройке Санкт-Петербурга, оказала громадное воздействие на позднейшие поколения. Многие погибли из-за тяжелых условий, но город стал символом прогресса и европеизации. Методы были жестокими – но нация в целом выиграла. Примером Петра, возможно, объясняется столь рьяное использование каторги его последователями на российском престоле. Без сомнения, Сталин тоже был высокого мнения о его подходе к строительству.
Тем не менее в XIX веке каторга оставалась сравнительно редкой формой наказания. В 1906 году срок отбывало всего около 6000 каторжан; в 1916‑м, в канун революции, их было только 28 600[29]. Гораздо большее экономическое значение имела другая категория приговоренных – поселенцы, отправленные в малонаселенные районы страны, выбранные благодаря своему экономическому потенциалу. Только с 1824 по 1889 год в Сибирь было сослано около 720 000 человек. Многие поехали с семьями. Именно они, а не каторжники в кандалах, постепенно заселили необъятные, богатые полезными ископаемыми просторы[30].
Их приговоры нередко были очень суровыми, и некоторые поселенцы завидовали каторжанам. В отдаленных, почти безлюдных местах с неплодородной землей многие умерли от голода, не протянув долгую зиму, или спились от тоски. Там было очень мало женщин – их доля никогда не превышала 15 процентов. Почти не было книг, никаких развлечений[31].
Пересекая Сибирь по пути на Сахалин, Антон Чехов встретил и описал некоторых интеллигентных ссыльных:
Большинство из них бедно, малосильно, дурно образованно и не имеет за собою ничего, кроме почерка, часто никуда не годного. Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, простыни, платки, и кончают тем, что через 2–3 года умирают в страшной нищете…[32]
Впрочем, не все ссыльные влачили тяжкое существование, не все опускались. Сибирь далеко от европейской части России, и тамошние власти порой проявляли большую снисходительность: образованность и хорошее происхождение были в дефиците. Зажиточные ссыльные и бывшие заключенные иной раз создавали большие поместья. У знающих людей возникала медицинская или юридическая практика, некоторые открывали школы[33]. Княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, пожертвовала деньги на постройку театра и концертного зала в Иркутске; хотя формально она, как и ее муж, была лишена дворянского звания, о приглашении к ней на вечер или званый обед мечтали многие, и эти приглашения обсуждались даже в Москве и Санкт-Петербурге[34].
К началу XX века система стала менее суровой. Волна тюремных реформ, прокатившаяся по Европе в XIX столетии, дошла наконец до России. Режим для осужденных смягчился, охраняли их уже не так жестко[35]. Поистине для небольшой группы людей, которые впоследствии возглавили российскую революцию, пребывание в Сибири по сравнению с тем, что пришло позже, было если не поездкой на курорт, то все же не слишком тяжелым наказанием. Политические имели больше прав, чем уголовники, и большевикам разрешалось в тюрьме читать книги, пользоваться бумагой и письменными принадлежностями. Серго Орджоникидзе вспоминал, что, сидя в Шлиссельбургской крепости, он прочел Адама Смита, Рикардо, Плеханова, Уильяма Джеймса, Фредерика У. Тейлора, Достоевского, Ибсена и других авторов[36]. Большевики в тюрьмах неплохо питались, прилично одевались и даже могли заботиться о прическах. На фотографии Троцкого, сделанной в 1906 году в Петропавловской крепости, на нем очки, костюм, галстук и рубашка с безукоризненно белым воротничком. Местоположение выдает лишь глазок в двери позади него. Другой снимок, сделанный в 1900‑м в восточносибирской ссылке, показывает его в меховой шапке и шубе, в окружении других мужчин и женщин, тоже очень добротно одетых и обутых. Полстолетия спустя в ГУЛАГе такой гардероб сочли бы роскошью.
А если жизнь в царской ссылке все же становилась слишком неприятной, всегда был путь к спасению. Сталина арестовывали и ссылали четыре раза, и трижды он бежал: один раз из-под Иркутска и дважды из-под Вологды, из тех мест, которые впоследствии покрылись сетью лагерей[37]. В результате его презрение к “беззубости” царского режима не знало границ. Его российский биограф Дмитрий Волкогонов сформулировал это так: “Можно было не работать, сколько угодно читать и даже бежать”[38].
Так благодаря опыту сибирской ссылки большевики получили образец для подражания и сделали вывод о необходимости чрезвычайно жесткой карательной системы.
Если ГУЛАГ – неотъемлемая часть как советской, так и российской истории, то он неотделим и от истории Европы: в XX веке Советский Союз не был единственной европейской страной, где утвердился тоталитарный строй и возникла система концлагерей. Хотя сравнение советских и нацистских лагерей не является задачей данной книги, полностью обойти эту тему невозможно. Две системы были построены примерно в одно время и на одном континенте. Гитлер знал о советских лагерях, Сталин знал о Холокосте. Некоторые люди побывали и в тех, и в других лагерях и описали их. В своей основе сталинская и гитлеровская системы родственны между собой.
Они родственны прежде всего потому, что нацизм и советский коммунизм родились из варварского опыта Первой мировой войны и российской гражданской войны. Индустриальные способы ведения боевых действий, широко использовавшиеся в обоих конфликтах, вызвали в то время сильнейший интеллектуальный и художественный отклик. Хуже замечено – не миллионами жертв, конечно, они-то заметили это хорошо – широкое распространение индустриальных способов лишения людей свободы. С 1914 года обе воевавшие стороны сооружали по всей Европе лагеря для интернированных и военнопленных. В 1918‑м на территории России находилось 2,2 млн военнопленных. Создание этих и более поздних лагерей стало возможным благодаря новым технологиям массового производства огнестрельного оружия и колючей проволоки. Некоторые из первых советских лагерей были сооружены на месте лагерей для военнопленных Первой мировой войны[39].

























