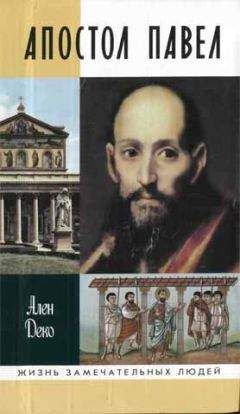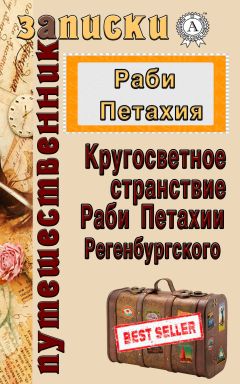Натан Эйдельман - Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле
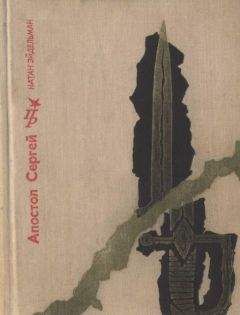
Помощь проекту
Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле читать книгу онлайн
Так или иначе, но царский приказ — пятерым умереть в четыре — не исполнен: половина пятого, пять, начало шестого!
Они стоят возле недостроенной виселицы, прерывая молчание короткими фразами. «Между прочим, Муравьев сказал:
— Какая позорная смерть! Для нас все равно, но жаль, что пятно ляжет на детей наших.
И потом, несколько помолчав:
— Ну, нечего делать; Христос также страдал, быв менее нас виноват. Мы чисты в своей совести, и нас бог не оставит.
Сии слова показывают в нем нераскаявшегося грешника».
Первая реплика уж очень похожа на фразу Пестеля: «Можно было нас расстрелять». Зато следующие слова — совсем муравьевские; ведь именно этими доводами он успокаивал ночью ослабевших: Христос больше страдал, «быв менее виноват». Значит, наша участь еще не худшая! Опять сравнение с Христом (которое будто бы донеслось с Васильковской площади, из Катехизиса!), а слова «мы чисты в своей совести» — это из тюремного письма о «чистоте намерений». «Самовидец» тут не ошибается… Но о каких детях идет речь?
Законная дочь только у Рылеева. Вряд ли о тех двух сиротках, что доставлены в Хомутец. Скорее, дети — это потомки вообще, как сами они «дети 1812-го».
Что еще мы можем услышать, увидеть в течение той, второй паузы?
Полицмейстер Княжнин (в передаче Руликовского) шесть лет спустя за обедом выхваляется, как, преодолев некоторое колебание, он подавил свои личные чувства и приступил к «выполнению воли высшей власти» и как после вторичного прочтения смертного приговора среди пятерых «послышался глухой ропот, который становился все более громким и дерзким». Предупреждая возможность более горьких последствий, Княжнин «приблизился к ним и крикнул: „На колени! Молчать!“ И все они молча упали на колени».
Генерал, вероятно, разгорячен обедом; к его неточностям гостеприимный хозяин Руликовский легко прибавляет свои. И все же не гоже совсем забывать этот не подтверждаемый больше ни одним свидетелем окрик: «На колени! Молчать!»
Оставим «колени» на совести рассказчика, но «Молчать!» по должности следовало крикнуть: разговаривать не полагалось, Муравьев-Апостол же говорил о Христе и чистых намерениях, так что было слышно другим.
Играет оркестр, в воздухе паленый запах горящих форменных сюртуков, инженер Матушкин суетится около виселицы.
Половина шестого.
Можно только догадываться, что влепили заблудившемуся вознице и каким взглядом наградили Чернышев, Бенкендорф, Голенищев-Кутузов нерасторопного строителя виселицы! Каждую минуту после четырех часов приговоренные дышат вопреки высочайшему повелению. А ведь каждые четверть часа в Царское Село идет курьер; император не ложится спать, пока не сообщат…
Пушкин: «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним».
Царь нервничает, Пушкин восемь лет спустя несколько ошибается — дело не могло быть в полдень, а только ка рассвете. Но вообще записывает верную подробность, потому что расспрашивает знающих людей: царь нервничает…
Между тем работа заканчивается. Под виселицей вырыта большая и глубокая яма; она застлана досками, на которые должны стать осужденные, и, когда на них наденут петли, доски из-под ног вынут… «Таким образом, казненные повисли бы над самой ямой; но за спешностью, виселица оказалась слишком высока, или, вернее сказать, столбы ее были недостаточно глубоко врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Вблизи вала, на котором была устроена виселица, находилось полуразрушенное здание училища торгового мореплавания. Оттуда, по собственному указанию Беркопфа, взяли школьные скамьи и поставили на них преступников.
Большие и средние начальники почти забыли о пятерых, поглощенные вопросами техническими и организационными. «Самовидец» же, как человек маленький, приглядывается к смертникам.
«Преступники на досуге, сорвав травки, бросали жребий, кому за кем идти на казнь, и досталось первому Пестелю, за ним Муравьеву, Бестужеву-Рюмину, Рылееву и Каховскому. Но когда виселица готова, их хотели повесить всех вдруг (т. е. одновременно) и с несвязанными руками, о чем Рылеев напомнил исполнителям казни, после чего руки их связали назади».
Их пригласят умереть одновременно, но становятся они под виселицей именно так, как вышло по жеребьевке. Здесь был миг, момент, когда они еще свободны в выборе, вольны поступать, как хотят.
«Священник Петр Николаевич был с ними. Он подходит к Кондратию Федоровичу и говорит слово увещательное. Рылеев взял его руку, поднес к сердцу и говорит: „Слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего“».
Это в записи декабриста Оболенского, лучшего друга Рылеева. О следующих же секундах мы слышим только пьяный фальшивый голос Княжнина:
«Пятерых осужденных к смертной казни… отдали в руки кату, или палачу. Однако, когда он увидел людей, которых отдали в его руки, людей, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок.
Тогда его помощник принялся вместо него за выполнение этой обязанности. Этот помощник, бывший придворный форейтор, совершил какое-то преступление и, чтобы спасти себя от тяжкого наказания, согласился сделаться палачом. Если бы не он, то исполнение приговора должно было бы приостановиться».
Об этом эпизоде больше нет ни одного слова ни у кого.
Как трудно пробиваться к подлинности любого факта, а ведь это хорошее, добротное слово подлинность имеет неважное происхождение: «сказать подлинную правду» означало признаться под пыткою, производимой длинником (длинным хлыстом, прутом), коим, как полагали в старой Руси, лучше всего узнавалась как раз необходимая, настоящая, подлинная правда. А если уж углубляться далее, то будет правда подноготная, извлекаемая, понятно, более крепкими пыточными средствами…
Но, повторяем, имена палачей не отысканы, и если применить к рассказу Княжнина тот же метод, что и раньше, — ослабить, уменьшить, разделить сказанное — то, может, и была третья пауза ввиду смущения палача. Во всяком случае, свой испуг, что дело еще затянется, полицмейстер должен был помнить. Заметим, что в отчете, который был вскоре послан Николаю, говорится о «неопытности наших палачей и неумении строить виселицы».