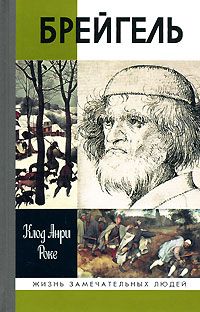Сергей Львов - Питер Брейгель Старший
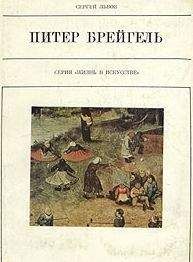
Помощь проекту
Питер Брейгель Старший читать книгу онлайн
Видно, Брейгелю трудно дышалось в тот год в Брюсселе, и он снова стал совершать долгие прогулки по окрестным деревням. Очень трудно представить себе, что и «Крестьянская свадьба» и «Деревенский танец» написаны по воспоминаниям антверпенских лет. Тогда он отправлялся на прогулки вместе с Гансом Франкертом. В те годы он был моложе, у него был хороший друг и спутник, и, рассказывая об их прогулках, ван Мандер приводит подробность, интересную для характера Брейгеля:
«С этим Франкертом Брейгель часто ходил по деревням, когда там происходили ярмарки и свадьбы. Они являлись на свадьбы переодетыми крестьянами и, выдавая себя за родственников либо жениха, либо невесты, подносили, как и другие, подарки. Здесь Брейгелю доставляло удовольствие следить за теми безыскусственными приемами крестьян в еде, питье, танцах, прыганье, ухаживании за женщинами и других забавах, которые он так красиво и смешно воспроизводил…»
Эти слова ван Мандера относятся и к более ранним годам и к более ранним картинам, чем те, о которых речь идет сейчас. Веселая усмешка над забавными обычаями крестьян, взгляд со стороны и несколько свысока им не присущи. В эти более поздние годы художник приходил в деревню по-другому и видел в ней другое. Недаром в тот же самый год, когда были созданы эти картины, возник его замечательный рисунок «Лето».
Поле. Жара. Косари. Несколько косарей еще косят. Один, запрокинув над головой большой жбан и припав к нему губами, жадно пьет. Он пьет так заразительно, что чувство утоляемой жажды передается зрителю.
Такие могучие тела на этом рисунке, такая сдержанная сила в движениях, так монументально все изображенное, что рисунок иногда сравнивают с работами Микеланджело.
В этот трудный год, которому было суждено стать предпоследним годом жизни Брейгеля, он шел в деревню не забавы ради, хотя и видел все, что было забавно, — малыша, утонувшего в огромной шляпе в «Свадьбе», неловко целующуюся пару в «Танце», — нет, он шел сюда в поисках новой опоры, новой надежды. Если это так, взглянем, пожалуй, еще раз на одну из его поздних работ. Ее называют иногда «Сорока на виселице», иногда «Танцы под виселицей». Мы говорили о ней прежде. Попробуем взглянуть на нее снова и по-иному.
В деревне был праздник. Деревенская улица стала тесна его участникам. Пляшущие пары вышли из деревни и, не прекращая танца, движутся сквозь рощу, залитую и пронизанную солнцем. Они выходят на опушку. Их глазам предстает стоящая на невысоком бугре отвратительно раскоряченная виселица. Сорока сидит на ее перекладине. Двое мужчин остановились перед виселицей. Один из них указывает на нее и что-то говорит, другой смотрит, следуя взглядом за его жестом. А остальные? Не заметить виселицу, к которой их привел веселый танец, они не могут. Если они и не видят ее сейчас, то помнят о ней. Она не сегодня появилась на этой лужайке. Но если нельзя выйти за околицу, чтобы не натолкнуться на виселицу, что же, значит, надо заживо себя похоронить? Ну нет. Этого от них не дождутся! Они продолжают танец, а один из них, отделившись от остальных, выражает свое презрение к устрашающей виселице самым грубым образом — устраивается недалеко от нее по нужде.
Поразительная картина! В ней есть все черты Брейгеля — откровенная сниженность жанра, в ней есть аллегория, но сильнее всего — пейзаж: извивы реки, просторы лугов, дальние горы, распахнутый, зовущий к движению горизонт.
Виселица не может остановить праздник и пляску, виселица не может зачеркнуть и уничтожить красоту огромного мира; виселица не может остановить исканий художника, который видит эту красоту с прежней и новой силой.
Брейгель уже бессчетно писал деревья, реку, горы, дальние города, заречные луга. Но на этой картине все похоже и непохоже на пейзажи, написанные раньше. Ни он сам, ни кто другой до него или в одно с ним время не передавал так воздушную дымку, размывающую очертания дальних гор, тончайшие цветовые переходы листвы, в которой дрожат и вспыхивают солнечные лучи, стены дальних домов, голубовато-серых в тени, золотисто-розовых на солнечном свете. Глядишь на эту картину, и кажется, что художник, создавая пейзаж, сотканный из воздуха и света, провидит отдаленное веками будущее живописи, предвосхищает ее развитие.
Да, этот год был трудным и страшным, но именно в этот год Брейгель не только не остановился в своих исканиях, но нашел новые средства, чтобы передать все, что открыла внимательному взгляду художника природа. Здесь ничего не осталось от традиционного деления пейзажа на несколько отграниченных друг от друга планов; переходы изменчивы, созданы воздухом и трепещущим светом. Представить себе невозможно, что картина писалась не с натуры, не на воздухе, но по памяти и в мастерской. Ровесница «Крестьянской свадьбы» и «Деревенского танца», она словно бы принадлежит иному времени.
Зоркость глаза, цепкость памяти, свежесть восприятия, отбрасывающего все привычное, даже собственные прежние завоевания, изумляют и восхищают. Знал ли художник, к каким открытиям будущего приблизился?
Он ценил эту картину и завещал ее жене. Ван Мандер, который рассказывает об этом, называет картину «Сорока на виселице» и дает простодушно-наивное истолкование ее сюжета: «Своей жене он отказал картину, изображающую сороку, сидящую на виселице, где под сорокой он разумел сплетниц, которых обрекали на виселицу».
Не успеваешь улыбнуться над этими строками, как биограф заставляет вздрогнуть следующими: «Он написал также картину „Торжество правды“, которая, по словам современников, была самым лучшим из созданных им произведений».
Это — последняя строка жизнеописания Брейгеля, принадлежащего ван Мандеру. За ней следует еще несколько строк, но они посвящены уже не Брейгелю Старшему, а его сыновьям.
Как знаменательно, что одной из последних и, по мнению современников, лучшей картиной Брейгеля было «Торжество правды», в как бесконечно жаль, что картина эта утрачена, что ни копий ее. ни описания не сохранилось! (Бастеляр предполагает, что речь идет не о «Торжестве правды», а о «Триумфе времени» — аллегории, которая перекликается с «Триумфом смерти» и о которой можно судить по гравюре, находящейся в кабинете эстампов Лувра, но эту догадку принимают немногие.)
Зато еще две и притом замечательные картины из числа последних работ Брейгеля сохранились. Это — «Страна лентяев» и «Буря».
Наверное, в деревне, где хлеб насущный давался только тяжелым и упорным трудом и все-таки был ненадежен, скуден или черств, сложена была сказка о стране тучного изобилия и беспечного благоденствия. Там текут молочные реки в кисельных берегах, лепешки падают с неба прямо в рот, жареные утки сидят на ветках, жареные поросята бегают по лужку — достаточно только протянуть руку.
Сказку эту не истолкуешь однозначно — в разное время у разных рассказчиков в ней выступали на первый план различные стороны — то мечта об изобилии, сложившаяся в умах людей, которым не всегда удавалось наесться досыта, то насмешка над лежебоками, которые надеются, что кусок сам прибежит в руки, с неба свалится в рот.
Брейгель мог слышать эту сказку еще в детстве, а вложил ее в картину в последние годы своего творчества.
Подробности картины следуют за подробностями сказки: частокол, сплетенный из колбас, гора из сладкой каши, окружающая страну изобилия, — чтобы попасть в нее, нужно проесть дорогу в этой горе… Есть на ней жареный поросенок — бегает по лугу с ножом в боку, словно предлагает нарезать себя на куски, есть, наконец, лепешки — они срослись так, что образуют подобие кактуса-опунции. Таких растений старая европейская сказка не знала, а Брейгель мог увидеть опунцию среди диковин, которые попадали в Антверпен из заморских владений Испании.
Занятные эти подробности замечаешь не сразу.
Картина построена так, что взгляд притягивают к себе три человека, лежащие на земле: солдат, крестьянин и писарь.
Солдат и крестьянин повернули головы друг к другу и, видно, переговариваются, писарь подложил руки под голову и, широко раскрыв глаза, смотрит в небо. К его поясу привязана чернильница, рядом с ним толстая книга с застежкой, под рукой исписанный лист бумаги… Писарь? А может быть, странствующий поэт из студентов, который, следуя зову старинного предания, шел-шел и наконец пришел в эту благословенную страну, где даже крыша, под которой он прячет лицо от солнца, — это огромная круглая столешница, укрепленная на деревянном стволе и уставленная едой. Впрочем, для странствующего студента у него слишком богатая, подбитая мегом шуба.
Он лежит с открытыми глазами, глядит в небо, думает.
Крестьянин не расстается с цепом, подложил его под себя и придерживает рукой. Зато воин небрежно сбросил с руки стальную перчатку, но на копье, чтобы оно не откатилось далеко, положил ногу. Все три фигуры написаны удивительно точно, у них сильные, могучие тела и спокойные позы. «Страной лентяев» называют обычно эту картину, но в изображении этой троицы не ощущается осуждения и насмешки. Для лентяев у них слишком мускулистые тела, и отдых их похож не на долгий праздничный покой, а на короткий привал в пути.