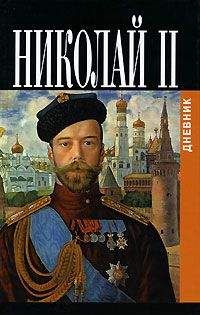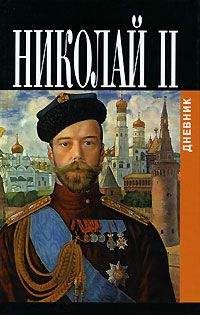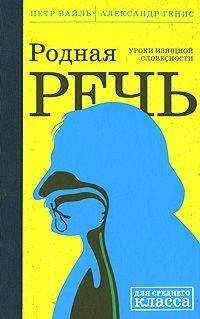Николай Федь - Литература мятежного века

Помощь проекту
Литература мятежного века читать книгу онлайн
Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы.
......................................................
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе грез крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетались
.......................................................
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...
Пушкин, по словам Белинского, "настоящим образом вник в дух народной русской поэзии", положил начало новому этапу сближения литературы и фольклора. "В зрелой словесности, - писал Пушкин, - приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному". В народных сказках и песнях поэт высоко ценил дар творческого воображения, прекрасный и выразительный язык.
Не случайно поиски новых форм выражения часто соприкасались с фольклорной традицией, но в большинстве своем писатели ориентировались на сказовую манеру повествования. Исследователь Б. Эйхенбаум справедливо отмечал в 1925 году, что "нет, кажется, почти ни одного современного беллетриста, который не пробовал бы в той или иной форме писать сказом или близкой к нему манерой".14 И это естественно для нашей литературы, поэтому требует особого внимания.
Литературный сказ восходит ко времени Древней Руси. Зародившись в недрах древнерусской культуры, претерпевая естественные историко-генетические изменения, сказ сохранил некоторые из своих родовых признаков, дошедших до нашего времени. Русский сказ дерзнул войти туда, куда до него редко заглядывали рассказ и сказка: в шахты и в рудники, в ткацкие светелки, на курные обжигательные делянки и в деревенские "фабрички". Здесь, пожалуй, он первый обнаружил богатые поэтические жилы, о существовании которых до него и не подозревали, хотя пословица издревле намекала на эти подспудные кладовые. Изустный народный сказ сложился под жужжание веретена, под шум самопрялки, под стук ткацкого станка и звон молота о наковальню. Он вызван к жизни теми же духовными потребностями человека, что и изумительные по красоте слога, по богатству содержания былины и народные песни. Простому русскому человеку светили и лучина, и месяц, поблескивали и портновская игла, и лезо плотницкого топора; его ухо улавливало поэзию и в скрипе сохи Микулы Селяниновича, и в звоне меча Ильи Муромца, и в тысячеустом говоре фабрично-заводских стачек; его пути-дороги от старого-бывалого, через бури и грозы революционных лет пролегли к нашим дням. Быль умельческая, трудовая, героическая вдохнула в сказ новые силы, придала ему неповторимое своеобразие. XIX столетие обогатило русскую изящную словесность такими мастерами сказа как Лермонтов, Гоголь, Лесков, Короленко. Так "Левша" Н.С. Лескова покоряет красотой сказового слога, ароматом поэзии. Лесков доказал, что литературный сказ может доставить такое же эстетическое наслаждение, какое доставляют лучшие творения великих писателей. Неизбывная вера в неиссякаемые творческие силы народа, любовь к человеку труда, восхищение его мастерством, возведенным в степень высочайшего искусства, стремление выдвинуть мышление и видение простого человека на первый план, живая народная речь - вот те наиболее примечательные черты лесковского произведения, которые наряду с другими достоинствами классического сказа впоследствии наследует и будет развивать сказочный жанр в послеоктябрьский период.
Многие писатели XIX века обращались к сказовой форме повествования - и среди них М. Шолохов, К. Федин, В. Маяковский. В ряде "несказовых" произведений обнаруживается присутствие сказовых элементов. Например, в "Чапаеве" Д. Фурманова явно ощущаются стилевые приметы сказового повествования. Вспомним рассказ Чапаева о случае в Карпатах во время войны 1914 года, когда из-за паники погиб почти весь отряд... В ранних произведениях Л.М. Леонова сказовая манера становится средством речевой социальной и психологической характеристики героя. Леонова привлекали люди с нелегкой судьбой, привязанные к прошлому лишь в силу будничных привычек. Потеря родины стала для них настоящей трагедией, ибо та родина, которая существовала в их представлении и которую они понимали, ушла в небытие, а новая - реальная - была для них непостижимой. В таком свете предстают перед нами, например, герои рассказа "Бурыга". Жизнь лесных "окаяшек" катилась по ровной дорожке, пока не "запели топоры", "хряснули весело", "пошли гулять-целовать", "встал на бору железный стон". "Железное" подняло "окаяшек", разнесло их кого куда. Испания, в которую Бурыга попадает, страна чисто условная, как недостоверны и его приключения у испанского графа, испанской купчихи и немца Бутерброта. Вот он "в сюртуке ходит", "волосы бобриком стрижет", а "серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует рюмками у Бутерброта коньяк". "Лесная тоска" и выступает в леоновском произведении как ведущий мотив. "Я, Шарик, домой хочу идти... Туда, - говорит Бурыга. - Не то, что у вас тут... у нас по-другому... Тебе, Шарик, не понять... Я туда пешком пойду". И Бурыга уходит в родные места. Даже ночь помогает ему, она обещает его "в тьму закутать", где нужно - на крыльях пронести. Фольклорные мотивы усиливают изображение духовной обреченности персонажа. Настроение рассказа, созданное массой сказочно-бытовых деталей, усиливается концовкой... "В ту ночь до утра выл Шарик на дворе... И выл, и выл, не давая городу спать, не давая тишине землю сном окутать... Понятно, собачья тоска - не фунт изюму!" Фантастический образ лесного существа Бурыги представляет собой воплощение тоски по родине.
В целом сказ не исчерпывал стилевые поиски литературы 20-х годов. Тем не менее он влиял на художественный ландшафт. Русский литературный сказ одно из оригинальных явлений мировой культуры.
Огромное значение для становления нового литературного сказа имело произведение Сергея Есенина "Песнь о великом походе". Над Россией, не успевшей еще залечить глубокие раны, нанесенные первой мировой и гражданской войнами, зазвучала песнь, в которой тесно сплелись история и современность.
Вы послушайте
Новый вольный сказ,
Новый вольный сказ
Про житье у нас.
Первый сказ о том,
Что давно было.
А второй - про то,
Что сейчас всплыло.
"Песнь о великом походе" вобрала в свою сюжетную канву главнейшие события почти двух веков. Здесь мы имеем пример счастливого слияния поэтического "я" с миллионными массами. Устами певца как бы ведут сказание непосредственные участники далекой и близкой истории, цепочка описываемых событий тянется от деяний Петра Великого и его сподвижника Лефорта до сражений красных питерцев под Лиговым, до боев революционных полков с Калединым, Колчаком и Врангелем. Источник творчества подлинного художника в народе.
Если мы сопоставим "Песнь о великом походе" с лермонтовской "Песней про царя Ивана Васильевича...", то найдем много общего в их манере сказывать, в их словесных узорах, поражающих своей народностью и строгостью отбора устно-поэтических традиционных образов. Не случайно современник Лермонтова Н.А. Бестужев в письме к брату из Петровского завода 4 июля 1838 г. отмечал, что главное достоинство "Песни про царя Ивана Васильевича..." состоит в умении поэта "передавать народность и ее историю".15
На первой же странице есенинского сказа склад и слог отчетливо выявляют колорит образного живого просторечия: "непутевый дяк", "стал быть", "уж и как у нас, ребята". При этом просторечие нигде не питается словами и оборотами, стоящими за чертой литературного языка и общедоступности; это именно живой разговорный народный язык с его неисчерпаемыми словообразованиями, с его веселыми интонациями, сразу придающими и отдельному слову, и всей строке, и целой фразе "лица необщее выражение".
И тут поэту приходит на помощь животворное просторечие с его неисчерпаемостью словообразования, с его незатасканными оборотами, веселыми интонациями, сразу придающими и отдельному слову, и всей строке, и целой фразе "лица необщее выражение". В контексте сказа так уместны "миляги", "тараканы, сверчки запечные", "дрохва (дрофа) подбитая". Или: "По Тверской-Ямской под дугою вбряк", "И навек задрал лапти кверху дьяк", "У него, знать, в жисть не болят бока". Здесь народный говор, просеянный сквозь сердце поэта и его чуткий слух, предстает перед нами во всем своем цветении. Как умельцы сталевары сплавливают воедино разные металлы, чтобы затем получать новые марки, так и поэт-сказатель разнородные, на первый и неискушенный взгляд, словесные и стилевые породы превращает пламенем художественного дарования в нечто однородное и уже незабываемое, не подлежащее пересмотру и переделке: