Владимир Ильин - Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение»
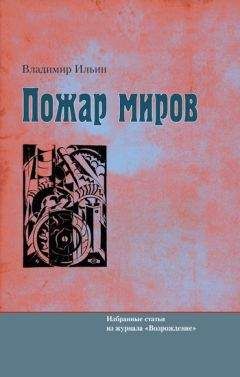
Помощь проекту
Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение» читать книгу онлайн
Такие вещи, как «Бобок» Достоевского и «Покой», «Он» и др. Леонида Андреева, дают и символы этого рода состояний, и экзистенциальный опыт их расшифровки. Однако эта «расшифровка», как, например, и «большая идея» Кириллова в «Бесах» Достоевского, не вносит ни малейшего света в эту тьму кромешную человеческой экзистенции, но скорее еще более ее сгущает. Не принесли ни малейшего избавления ни Киркегор, ни Ницше, ни тем более марксизм, силившийся устранить те средства облегчения и исцеления, которые человечество, в виде религии и философии, прикладывает к своим язвам.
Нашествие внутреннего варвара, красная обломовщина и предчувствие второго возрождения. Пастернак
Революция 1905 года была бы тем же, чем впоследствии стала революция 1917 года, с теми же погромными по отношению к России и ее культуре устремлениями и результатами.
Русский Ренессанс, начавшийся в конце XIX века, был бы оборван при самом его зарождении. Катастрофические результаты успеха первой революции могли бы быть даже более гибельными для культуры, чем это случилось позже, когда Ренессанс пустил уже некоторые корни. Что это именно так, видно из отзывов так называемой «прогрессивной печати» на ренессансный сборник «Вехи». Читая их, можно подумать, что сплошь вся «прогрессивная» печать заболела литературно-критическим чекизмом.
Один из авторов «Вех» был несомненно прав, считая, что верхи русской культуры той эпохи удержались только благодаря защите власти. Последняя просто не могла потерпеть «беспорядка». И небольшая элита, приютившаяся на русском государственном корабле, временно уцелела от гибели и продолжала свое изумительно плодотворное, все возраставшее в качестве и в количестве творчество.
Однако все то, что за это время было создано значительного в русской литературе, было заранее приговорено к уничтожению либо к изгнанию.
Творчество в изгнании, вне родной почвы, – вещь чрезвычайно трудная, почти невозможная. Если наблюдаются такие явления, как Мицкевич или Бунин, то это объясняется тем, что тот и другой вполне уже развились и проявили себя еще в период своей укорененности в родной земле. Они, так сказать, вопреки известной фразе Дантона действительно унесли частичку родной земли на подошвах своей обуви, продолжая ее чувствовать во время своих горестных скитаний. Что же касается России, превратившейся в СССР, то она как бы оказалась вывернутой наизнанку, неузнаваемой, страшной мачехой или же скрывшейся куда-то по линии, так сказать, четвертого измерения. Возникло явление, именуемое «внутренней эмиграцией». Во всем мире наступал тоталитаризм, антикультурное веяние которого сказывалось и в противных лагерях. Были такие моменты в этой эпопее внутреннего сокрытия, выворачивания и извращения родной земли и родной культуры, когда остававшиеся были от нее значительно дальше, чем ушедшие. Эти моменты создали потом своеобразную и в общем тоже мало способствовавшую творчеству атмосферу эмигрантского сектаризма. Он даже оказался перенесенным и в область религии и вечных ценностей.
К этому надо присоединить еще одно явление, которое нами уже было анализировано. Его можно назвать генерализированной обломовщиной.
Сущность обломовщины, как мы уже говорили однажды, заключается в ложной педагогике, а главное, в духовном протекционизме по отношению к «своим». Надо заметить, что господство тоталитаризмов – социально-политического на Востоке и шовинистически-нацистского на Западе – привело с автоматической необходимостью к тому, что следует назвать духом протежирования «своих» посредственностей. В этом, пожалуй, смысле и можно признать нашу эпоху по-настоящему «бесноватой», особенно если принять во внимание, что «бес» есть всегда «бес» посредственности, серости и самомнения. В режиме «обломовщины» на почве тоталитаризма всегда, если так можно выразиться, «ворожит» «своим» какая-нибудь «бабушка» – социальная, национальная или кланово-групповая, партийно-миросозерцательная и т. д. В эпохи тоталитарных диктатур и их борьбы возникает такая развращенность духа на почве нежелания придерживаться принципов элементарной справедливости в оценках, которая не возникла бы никогда при других условиях. Возникает неправда, которая может быть определена как неорабство или неокрепостничество и совершенно небывалый паразитизм.
Обломовщина возможна только в условиях крепостничества и вообще рабства. Однако старую классическую обломовщину со всеми ее недостатками нельзя даже и отдаленно сравнить с неообломовщиной, возникшей в условиях неорабства и неокрепостничества. Там все-таки были отношения патриархальные, отношения домочадцев, или, во всяком случае, эти патриархальные отношения бывали возможны и существовали. В условиях нынешней неообломовщины это совершенно невозможно.
Практика этой красной обломовщины, неокрепостичества и неорабства ставит на очередь исследование о тоталитарном табу. Его можно назвать полным запрещением ревизии. Такое исследование требует предварительно специального психоанализа современного рабовладельчества и крепостничества в связи с трансформацией идеи тоталитарной непогрешимости вождей и идеологов. Автор этих строк работает над этой темой.
В сущности говоря, тоталитаризм начисто отменяет идею как науки, так и искусства, всецело заменяя их пропагандой, агитацией и внушением. Эта тройка, которой ныне заменяется творение культуры и воспитание человека, принадлежит к основным проблемам психотехники. Однако, как это ни странно, в СССР такой науки, столь важной для «начинки черепных коробок», не существует. Это понятно: в СССР боятся как огня такой науки, где участвует понятие «душа», ибо уничтожение самого понятия «душа» входит в существо советской акции в мире. Отсюда стремление заменить проблемы пропагандно-агитационной техники внушения и автоматизации, роботизации человека тоталитарными подделками науки, философии и искусства. Приняв во внимание, что агитационные подделки искусства и критики не грозят непосредственно ни экономике, ни обороноспособности плацдарма мирового коммунизма, здесь можно было не церемониться. Кроме того, у коммунистов – прямых наследников русской радикальной нигилистической критики средины XIX века – были готовы прочные традиции социально-политического подхода к явлениям литературы и искусства. Это был подход так называемый утилитарный. Здесь этот термин не нужно рассматривать с той точки зрения, которую ему придает Джон Стюарт Милль и вообще вся школа англо-американского утилитаризма, впоследствии – прагматизма. Несомненно, в свое время эта школа сыграла существенную роль в деле формирования радикально-нигилистической критики. Но так как она была типично буржуазного характера и притом еще специфически англосаксонского, то очень скоро она оказалась «отставшей» в глазах радикалов и тем более в глазах коммунистов. Понятия «утилитаризм» и «гедонизм» (как, например, у Бентама) очень скоро оказались совершенно не подходящими для русских радикалов. Уже Н.К. Михайловский, вождь русских социалистов-революционеров народников и моральный автор злодеяния 1 марта 1881 года, разбирая «Бесы» Достоевского (где он, как и во всех других вещах Достоевского, ровно ничего не понял), объявил идею национального богатства и народного благополучия самым главным «бесом». Это совершенно естественно, ибо его направление, которое, как показал отец Сергий Булгаков, ничем не отличается от коммунистов-большевиков, больше всего боялось народного благополучия, при котором революция или совершенно невозможна, или чрезвычайно затруднена. Уже тогда на литературу смотрели только с агитационной точки зрения. Художественность и вкус считались досадными недостатками, мешающими прямому назначению литературы как основного агента революционного взрыва. Таким образом, хотя и не глубокая, но по существу безвредная идея утилитаризма Милля и гедонизм Бентама претерпели у радикалов трансформацию, изменившую эти идеи до полной неузнаваемости, даже до полной противоположности. Гедонизм вообще был отброшен, а «утилитаризм» рассматривался с точки зрения того, подходит ли данное произведение в качестве революционно-агитационного или нет.
Можно себе представить, как, при наличии такого подхода к литературным явлениям, были встречены идеи Ренессанса, хорошего вкуса, стиля, красоты и углубленной метафизики. Но при наличии правового государства расправа в порядке полицейском с течениями Ренессанса, да и вообще со всей русской литературой начиная с Пушкина, была невозможна. В распоряжении радикалов оставался газетно-журнальный террор, да еще террор так называемого «общественного мнения»; и, надо заметить, радикалы распорядились этим средством с поразительным умением, выкорчевывая из русских душ какое бы то ни было представление о самодовлеющей роли и о самоценности искусств. О религии совершенно уже и не говорили – как и не упоминали о таких понятиях, как «душа», «дух», «бытие» и, вообще, все то, что составляет содержание метафизики и нематериалистической философии. В большом ходу было, например, такое положение: «Фет – плохой поэт, потому что богатый помещик». Или: «Настоящее яблоко лучше нарисованного, потому что его можно съесть». Или: Константин Леонтьев «никуда негодный философ и писатель, потому что монархист». Еще в 1905 году повсеместно в России в гимназиях, в университетах и проч. считались «развитыми и умными» только те, которые попугайски повторяли эти положения. Насмешки Писарева над Пушкиным были во всеобщем ходу. Хотя Ренессанс уже давал себя чувствовать, его представители в толщу интеллигенции не проникали и пребывали на положении обитателей «башни из слоновой кости». К тому же в это время давало себя чувствовать карикатурное влияние русского псевдофутуризма, основным лейтмотивом которого было радостное сознание, что заниматься искусством можно, не имея ни малейших к тому данных. Слова «талант», «гений», «призвание», «вдохновение» как бы не существовали для основной массы пишущих и читающих.
























