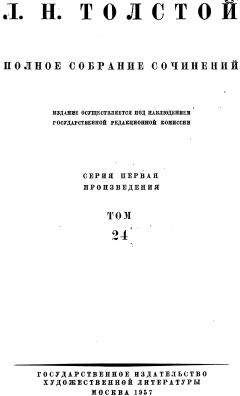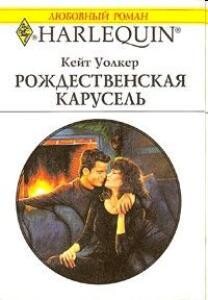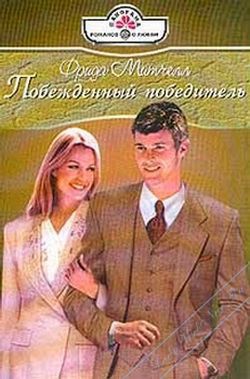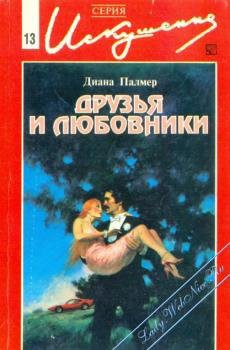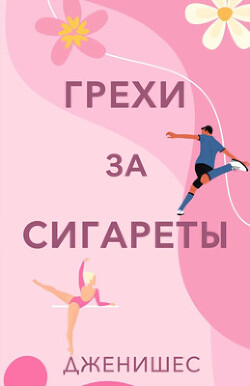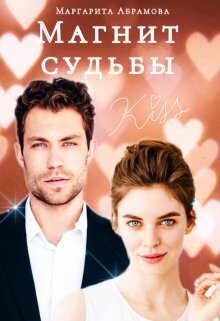Иван Бунин - Инония и Китеж

Помощь проекту
Инония и Китеж читать книгу онлайн
И когда говорят: стоит ли обращать внимание на эту «рожу», на это «миссианство», столь небогатое в своей изобретательности, знакомое России и прежде по базарным отхожим местам? Увы, приходится. И тем более приходится, что ведь, повторяю, некоторые пресерьезно доказывают, что именно из этих мест и воссияет свет, Инония.
Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать в сущности единую. Ведь уж давно славили «безумство храбрых» (то есть золоторотцев) и над «каретой прошлого» издевались. Ведь Пушкины были атакованы еще в 1906 году в газете Ленина «Борьба», когда Горький называл «мещанами» всех величайших русских писателей. Ведь Белый с самого начала большевизма кричит: «Россия, Россия — Миссия!» Ведь блоковские стишки:
Эх, эх, без креста,
Тратата! —
есть тоже «инония», и ведь это именно с Есениными, с «рожами», во главе их, заставил Блок танцовать по пути в Инонию своего «Христосика в белом венчике из роз». Ведь это Блок писал: «Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал...»
— Конь мой, конь, славянский конь! — восклицал Толстой когда-то:
Конь несет меня лихой,
А куда? не знаю!
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак
С бритой головою
Молча свой натянет лук,
Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
Меткою стрелою?
Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным?
В град, где улицы гудят
Звоном колокольным?
Теперь ответ на этот вопрос дан: киргизская рука делает свое дело, и перед нами уже не светлый град, не Китеж, а именно он, голый солончак. Но неужели это конец? А если нет, то что дальше? В страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится Тмутараканский Болван, где «лисы лают на русские щиты» (как лают оне, увы, и в эмигрантском стане). При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его «пафосу», так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах «прозрений дивный свет». При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того «киргиза»,— как знаменательно, что и Ленин был «рожа», монгол! — который ныне есть хозяин дня. Он и буянит, и хвастается, и молится истинно по-киргизски: «Господи, отелись!» И стоя среди российского солончака, имитируя Пушкина, играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!»
Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не «рожа», не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти «рожи» возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?
Толстой говорил: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:
От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины,
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины...
Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди «монгольского» засилия и наваждения!
«Откуда вы взяли, что мы монголы?» В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией,— иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством,— а не Святогор? «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?
Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гёте, в его веймарском доме, и сидел у Гёте на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырской: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет:
Сердце, сильней разгораясь от года к году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду...
Буду кипеть, негодуя тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!
Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки,— ныне столь известные, полные неувядающей прелести:
Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты...
После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же далеко не полной свободы, от своих обязанностей по Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер - 28 сентября (11 октября) 75 года. И незадолго до смерти «странное», по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:
«Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни единого слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно хотел вспомнить что-то. Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: «Прозрачных облаков спокойное движенье...»
Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем, он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт натуры и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.
«С шестилетнего возраста, говорит Толстой в своей литературной исповеди, начал я марать бумагу стихами... Но и независимо от поэзии я всегда испытывал непреодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или другая картина или статуя или прекрасная музыка на меня производили такое сильное впечатление, что у меня волосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие по Италии. Изобразить всю силу моих впечатлений и весь переворот, совершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища искусства, невозможно...»