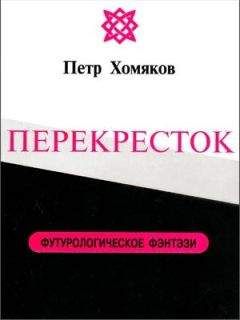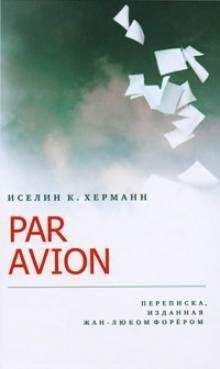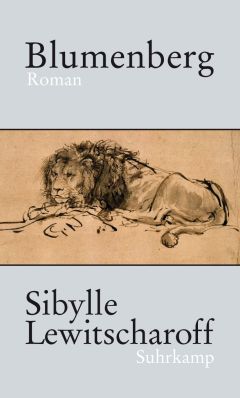Аркадий Блюмбаум - Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока
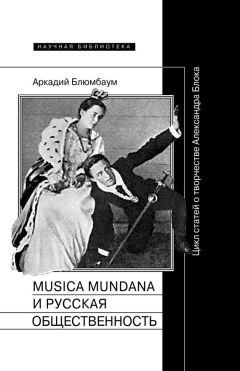
Помощь проекту
Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока читать книгу онлайн
78
Подобная реакция на начавшуюся войну (конфликт арийских народов, Япония и пр.) мелькает в современной Блоку литературе; аккуратно, но недвусмысленно проговаривает эту точку зрения М. Шагинян в повести «Семь разговоров», написанной в 1914 году, см. [Шагинян 1916: 7-88].
79
В этом контексте дополнительные смыслы могут приобретать рыцарские подтексты «Петроградского неба», особенно в связи с упоминанием «желтой угрозы» в черновиках стихотворения, см. гл. «Дальнобойные снаряды».
80
На плащах монашествующих рыцарей был изображен крест (у тамплиеров – красный крест на белом плаще, у госпитальеров – белый крест на черном плаще). Следует отметить, что герой «Розы и Креста» Гаэтан – подобно крестоносцам – предстает рыцарем с крестом на груди. Этот мотив позволил Д. Е. Максимову соотнести Гаэтана с «рыцарем-монахом», «крестоносцем» Владимиром Соловьевым [Максимов 1981: 188].
81
«Безусловно неправо только само начало зла и лжи, а не такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата: эти орудия должны оцениваться по своей действительной целесообразности в данных условиях, и каждый раз то из них лучше, которого приложение уместнее, то есть успешнее служит добру. И св. Алексий митрополит, когда мирно предстательствовал за русских князей в Орде, и Сергий преподобный, когда благословил оружие Дмитрия Донского против той же орды – были одинаково служителями одного и того же добра» [Соловьев 1904: XV-XVI]; «Принимая на себя историческую необходимость вооруженной борьбы против воинственного ислама, христианские народы не отступали в этом от духа Христова, и их военные подвиги были подвигами христианскими. <…>…можно допускать употребление человеком оружия для войны и все, что с этим связано, нисколько при этом не изменяя духу Христову, а, напротив, одушевляясь им. <…> Люди, верные этому духу, руководятся в своих действиях не каким-нибудь внешним, хотя бы по букве евангельским, предписанием, а внутреннею оценкою, по совести, данного положения. Вот почему св. Алексий митрополит ездил в Орду умилостивлять татар и русским князьям внушал покоряться хану, как законному государю, а через несколько десятилетий св. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Московского на открытое вооруженное восстание против той же Орды и даже отправил с ним в бой двух своих иноков-силачей. И при такой внешней противоположности и св. Алексий, и св. Сергий действовали одинаково в том же духе Христовом на добро людей» [Там же: 201-203].
82
Под влиянием Вл. Соловьева топика крестовых походов возникает и у других литераторов; см., например, в написанной в 1913 году статье В. Брюсова «Новая эпоха во всемирной истории. По поводу балканской войны» [Брюсов 2003: 103-114], где противником новых крестоносцев оказывается Турция, которая спорадически играла роль «врага с Востока» и в блоковском творчестве, ср. в «Новой Америке»: «Иль опять это – стан половецкий / И татарская буйная крепь? / Не пожаром ли фески турецкой / Забуянила дикая степь?» [Блок III, 182], в связи с Турцией как «врагом с Востока» следует упомянуть и первую главу «Возмездия», где дело русской армии, только что вернувшейся с русско-турецкой войны, названо «святым» («Да, дело трудное их – свято!» [Блок V, 27]). Ср. также в предисловии В. Бушуева к сборнику его военных стихов, где прямые аппеляции к соловьевским схемам сопровождаются мотивами религиозной войны (против Турции и Японии) и образностью крестовых походов: «Освобождение древних оскверненных святынь – заветная мечта христианина, угодная богу. Полки, идущие на Юг без мести и гнева, с крестом на груди, могут быть спокойны – с ними Бог» [Бушуев 1915: IV], ср. также далее образ «крестоносца непреклонного» [Там же: 53] (подробнее о позиции Бушуева см. [Обатнин 2010: 257-266]). Откликом на вступление Турции в Первую мировую войну на стороне Германии, а также на тот факт, что Иерусалим находился на тот момент под турецким контролем, стала статья Леонида Андреева под характерным названием «Крестоносцы» [Андреев 1915: 61-69] (впервые опубл.: Отечество. 1914. № 5). Стремление к захвату Константинополя и проливов в качестве военных целей России также подталкивало русскую публицистику к риторике крестовых походов, см., например, в диалоге Сергея Булгакова «На пиру богов», написанном уже в 1918 году: «Дипломат. <…> Неужели вы не замечаете, какое барское, недостойное здесь отношение к народу: то крестоносцы, а то звери! <…> Крестоносцы! До сих пор не можете забыть эту официальную ложь. <…> Разве можно вообще в наше время говорить о крестовом походе?» [Из глубины 1967: 119]. О мотивах, связанных с крестовыми походами, в текстах Вяч. Иванова военной поры см. [Обатнин 2000: 139].
83
Нет сомнений, что обращение Блока к тематике Куликовской битвы было спровоцировано в том числе русско-японской войной. Следует при этом отметить, что топика татаро-монгольского ига возникает в связи с поражением России в войне с Японией и у других авторов (правоконсервативной ориентации). См., например, в «Маленьких письмах» А. С. Суворина в 1905-1906 годах: «Платили мы дань хазарам, половцам, монголам, и вот опять монголы. История пошла назад. <…> Очутившись на развалинах того режима, которому еще вчера… служили члены этого правительства, они, конечно… считают себя виновными в тех результатах, которые привели нас к новому монгольскому игу. Ведь со времен Батыева нашествия Россия не испытывала такого угнетения своей русской души, как после японской войны» [Суворин 2005: 318, 458]. Ср. в письме Брюсова П. П. Перцову, написанном в декабре 1904 года после падения Порт-Артура: «Кажется мне, Русь со дня битвы на Калке не переживала ничего более тягостного» [Перцов 1940: 254]. См. также антияпонскую брошюру, где притязания Японии подаются как «новое монгольское иго» [Панов 1906: 46].
84
Ср. также отмеченную К. А. Кумпан идентификацию Блоком Ильи Муромца с «крестоносцем» Вильгельмом II: «К пересказу О. Миллером эпизода из былины об Илье Муромце („отложил Илья книгу евангельскую“ и, запросив у князя Владимира коня, отправился „прямо выручать Киев“) Блок делает помету: „Крест и меч – одно“ (цитата из „Дракона“ Вл. Соловьева)» [Кумпан 1985: 39]. Ср. письмо Эллиса Э. Метнеру 1913 года, где высказываются мечты о совместной борьбе запада и востока Европы против «желтой угрозы»: «Зигфрид и Илья Муромец, Парсифаль и Пересвет могли бы соединиться для борьбы с вос. драконом и запад. разложением», цит. по [Безродный 1997: 111].
85
Блок, по-видимому, неплохо представлял себе французский средневековый эпос еще с университетской скамьи. Студенческие материалы Блока свидетельствуют, что именно chansons de Geste были предметом одного из его ответов на выпускных экзаменах, см. [Кумпан 1983: 168, 175].
86
Ср. также в популярной «Истории французской литературы» Ж. Деможо, имевшейся в библиотеке Блока и использовавшейся им в работе над «Розой и Крестом» [Жирмунский 1977: 281-283], общую характеристику chansons de Geste, которая непосредственно предшествует главке, отведенной разбору «Песни о Роланде»: «Le premier caractère des épopées carlovingiennes, ou, pour leur donner leur vrai nom, des chansons de Geste, c’est l’inspiration religieuse; elles célèbrent surtout la lutte des chrétiens contre les mahométans. Images fidèles de la société qui les a produites, ou plutôt voix spontanées d’un people, elles expriment sa pensée intime, sa constante préoccupation, la guerre sainte» [Demogeot 1889: 74] (в библиотеке Блока было издание 1884 года). Специалисты XX и XXI веков интерпретируют «Песнь о Роланде» сходным образом. Так, Эрнст Канторович в замечательной статье, посвященной средневековым представлениям о смерти за отечество, так комментирует вынесенную в эпиграф строку поэмы («И если вы умрете, вы будете святыми мучениками»), являющуюся репликой храброго воина и одновременно архиепископа Реймсского Турпена, обращенную к рыцарям Роланда: «It is true, of course, that the warriors of Charlemagne supposedly were fighting the Saracens in Spain and therefore equaled crusaders» [Kantorowicz 1951: 482]; см. также [Flori 2009: 34, 158].
87
Приведенная цитата является достаточно вольным (хотя и вполне адекватно передающим смысл текста) переводом фрагмента статьи Вите [Vitet 1852: 858-859].
88
Именно в этот контекст Блок вписывал милюковские парафразы книги Блиоха, где отмечалось то, как практика современной войны вытеснила былые рыцарские доблести, см. гл. «Дальнобойные снаряды». Возвращаясь к снятию у Блока противопоставления Европа/Россия в контексте столкновения европейского и азиатского миров, укажу на неоднократно отмечавшиеся в ряде современных Блоку текстов сходство между «Роландом» и «Словом о полку Игореве» [Песнь 1896: 164, 169; Алмазов 1892: 191], являвшимся, как известно, одним из важнейших древнерусских источников поэзии Блока и в частности цикла «На поле Куликовом» [Левинтон, Смирнов 1979; Смирнов 1981].
89
«Devant chevalchet un Sarrasin, Abisme: / Plus fel de lui n’out en sa cumpagnie. / Te(t)ches ad males e mult granz felonies; / Ne creit en Deu, le filz sainte Marie; / Issi est neirs cume peiz ki est demise; / Plus aimet il traïsun e murdrie / Qu’(e) il ne fesist trestut l’or de Galice; / Unches nuls hom nel vit juer ne rire. / Vasselage ad e mult grant estultie: / Por ço est drud al felun rei Marsilie; / Sun dragun portet a qui sa gent s’alient» (CXIII) (к сожалению, мне остался недоступным находившийся в библиотеке Блока перевод «Роланда» на современный французский: La chanson de Roland, traduit en vers modernes par Alfred Lehugeur. 4-e éd. Paris, 1888 [Хохлова 1998: 328]). Эта деталь нашла свое отражение и в иллюстрациях к «Песне о Роланде»; см., например, миниатюру XV века (Musée Condé) (http://lachansonderoland.d-t-x.com/pages/iconographiechr14D.html), которая изображает Роланда, поражающего Марсилия, а также двойную миниатюру (ок. 1300), на которой Карл Великий сражается с Балиганом (Saint-Gall, Stadtbibliothek) (http://lachansonderoland.d-t-x.com/pages/iconographiechr09A.html); на обоих изображениях сарацины держат штандарт с драконом (справедливости ради следует отметить, что изображения дракона на штандартах в Средние века (а возможно, и ранее) были вполне распространены и на Западе [Шмитт 2006: 117-118]). О знакомстве Блока с подобными иллюстрациями к «Роланду» ничего неизвестно, хотя исключать его нельзя (следует иметь в виду существование в данную эпоху иллюстрированных книг по средневековой истории, см., например, посвященный Средним векам второй том переводной «Всеобщей истории» Оскара Йегера, набитый средневековыми изображениями разного рода [Йегер 1894], вторым изданием этой работы Блок пользовался, работая над «Розой и Крестом», см. [Жирмунский 1977: 312]). Мы знаем, что Блок интересовался визуальной культурой; в частности, в подготовительных материалах к «Розе и Кресту» имеются репродукции средневековых изображений, среди которых есть репродукции готических статуй Роланда и Оливье [Жирмунский 1977: 263].