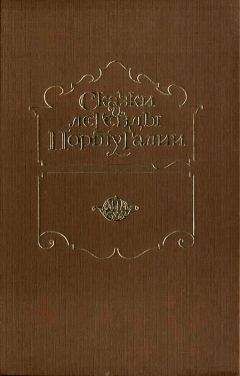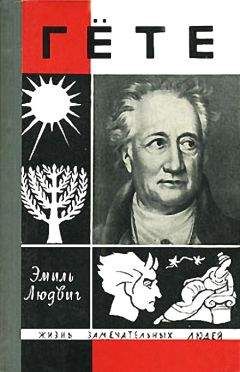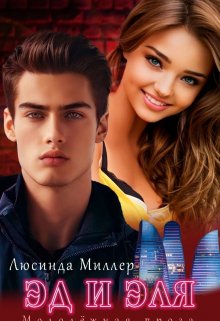Иван Тургенев - Фауст, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко

Помощь проекту
Фауст, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко читать книгу онлайн
в переводе (не совсем удачном) г. Вронченко:
Когда ж я возмогу…
. .
Там пить твой свет, твоей росой
От чаду знаний исцелиться!
Не является ли нам Фауст скептиком с самых первых слов своих? И самая его попытка «отважно обратить свой тыл к прекрасному земному солнцу» не есть ли последний, отчаянный и ложный порыв к свободе и гармонии? Сам Фауст – не тот же ли Мефистофель в своем разговоре с Вагнером, этим немцем par excellence[5], этим типом «филистера»? Наконец, он, Мефистофель, не есть ли необходимое, естественное, неизбежное дополнение Фауста?.. И не выговариваются ли в его речах задушевные наклонности и убеждения самого Гёте? Да и сам Мефистофель часто – не есть ли смело выговоренный Фауст?
Гёте начал писать свою трагедию весьма рано, прежде «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера».{29} Он начал ее, как он сам сознался, без всякого определенного плана; да и в теперешнем виде «Фауст», как трагедия, не может иметь притязания на округленность, на внешнее единство. Гёте с ранних лет отличался необыкновенной наклонностью к размышлению и систематизированию, – наклонностью, почти всегда несовместной с наивным даром поэтического воспроизведения, которым так щедро был он наделен… Впрочем, надобно прибавить и то, что Гёте как поэт вовсе не дорожил своими воззрениями и системами; он легко и свободно покидал их… его, в сущности, занимало одно: жизнь, возведенная в идеал поэзии («die Wirklichkeit zum schönen Schein erhoben», как говорит он),{30} жизнь во всех ее проявлениях. Он добросовестно, с любовию изучал ее… но, повторяем, не жизнь как жизнь занимала и увлекала его душу, но жизнь как предмет поэзии. Гёте, наконец, дошел до того, что он не пугался страданий, даже не избегал их: они внушали его лире такие новые, такие прекрасные звуки… Да, впрочем, какой же поэт когда-нибудь страдал, страдал действительно, бессловесно, глухо? Все они готовы повторять с Тассо:
Und mir noch über alles —
Sie (die Natur) liess im Schmerz mir Melodie und Rede,
Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide…[6]{31}
И, пользуясь этим, у плохих стихотворцев воображаемым, у хороших – действительным преимуществом, авторы до того надоели нам воспеванием своих страданий, что поневоле захочется сказать даже лучшему из них:
Какое дело нам, страдал ты или нет?{32}
Но от поэзии уйти невозможно; слова, сказанные нами, тоже стих, тоже произнесены поэтом…
Итак, Гёте писал своего «Фауста» без всякого плана. Он бросал стихи на бумагу, как невольные признания мыслящего и страстного поэта-эгоиста. В его время, в то переходное, неопределенное время позволительно было поэту быть только человеком; старое общество еще не разрушилось тогда в Германии; но в нем было уже душно и тесно; новое только что начиналось; но в нем не было еще довольно твердой почвы Для человека, не любящего жить одними мечтаниями; каждый немец шел себе своим путем и либо не признавал никакой обязанности, либо своекорыстно или бессмысленно покорялся существующему порядку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играет народ в «Фаусте»! Это – народ (вспомните сцену, когда Фауст гуляет с Вагнером, и сцену в погребе Ауербаха) вроде народа на картинах Теньера и Остада;{33} Мефистофель хочет дать Фаусту понятие о веселом житье-бытье толпы и показывает ему полдюжину довольно глупых студентов, над которыми они вдвоем потешаются «en grands seigneurs»[7]; народ в произведении Гёте проходит перед нашими взорами не как древний хор в классической трагедии, а как хористы в новейшей опере. Толпа представлена, как водится, объективно, даже символически (в сцене, о которой мы уже говорили, когда Фауст гуляет с Вагнером, все сословия – одно за другим – парадируют перед читателем); она понята; ей отдано то, что ей следует, «man lässt sie gelten»[8], – чего ж ей более? Какое право имеет она, эта глупая толпа, возмущать величественный покой, или одинокие радости, или, наконец, одинокие страдания какой-нибудь гениальной личности? А этот бедный молодой мальчик, этот ученик, который смиренно приходит попросить советов у Фауста, – с какой аристократической, небрежной иронией потешается Гёте над ним и вообще над молодым поколением, которое не может возвыситься до гениальности, – над ограниченной толпой! Все насмешки, все сарказмы Мефистофеля падают на Фауста, как на отдельное лицо; он знает его слабую сторону. Фауст, мы уже говорили это не раз, – эгоист и заботится об одной своей особе. Да, наконец, Мефистофель далеко не «сам великий сатана», он скорее «мелкий бес из самых нечиновных».{34} Мефистофель – бес каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение того отрицания, которое появляется в душе, исключительно занятой своими собственными сомнениями и недоумениями; он – бес людей одиноких и отвлеченных, людей, которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их собственной жизни и которые с философическим равнодушием пройдут мимо целого семейства ремесленников, умирающих с голода. Он страшен не сам по себе: он страшен своей ежедневностью, своим влиянием на множество юношей, которые, по его милости, или, говоря без аллегорий, по милости собственной робкой и эгоистической рефлексии, не выходят из тесного кружка своего милого я. Он едок, зол и насмешлив; люди, которые, по словам Пушкина,{35} встречаются с этим демоном, страдают; но их болезненные страдания не возбуждают нашего глубокого участия; притом сколько таких страдальцев, поносившись с своим горем, как «с писаной торбой», внезапно превращаются в добрых и здоровых пошлецов!.. Да и те из них, которые до конца дней своих вянут и сохнут, как надломанная ветка, – признаемся откровенно, и те возбуждают в нас одно лишь преходящее сожаление… Повторяем, Мефистофель страшен только потому, что до сих пор его почитают страшным… Ужасен он для людей, которым собственное счастье дороже всего на свете и которые хотят в то же время понять, почему именно они счастливы… а этих людей всегда будет много, до того много, что мы, вспомнив о их количестве, готовы снова признать величие гётевского чёрта, с которым мы обошлись было довольно бесцеремонно. Но всё же мы должны сознаться, что мы не раз возмущали «другой могучий образ»,{36} перед которым бледнел и исчезал Мефистофель, это воплощенное проявление критического начала в ограниченной сфере отдельной личности.
Итак, мы сказали, Фауст – эгоист, эгоист теоретический; самолюбивый, ученый, мечтательный эгоист. Не науку хотел он завоевать – он хотел через науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастие. Упорной односторонностью его отвлеченной натуры проникнута вся трагедия, исключая величавого появления Духа Земли в начале первой сцены. В громовых его словах слышится нам голос Гёте-пантеиста, того Гёте, который вне страстного разнообразия человеческого мира признавал одну безразличную, спокойную «субстанцию» Спинозы и уходил в нее как в свое «убежище» (in sein Asyl), когда собственная личность начинала ему надоедать. Эгоизм Фауста особенно проявляется в отношениях его к Гретхен. Наскучив бесплодностию и безотрадностию уединенной жизни, Фауст хочет (в переводе г. Вронченко):
…кипучие желания
В утехах чувственных тушить…
Он жаждет:
бурь, тревог, горчайших из отрад —
Любви враждебной, сладостных досад.
. .
Всё испытать попеременно,
Что человечеству присуждено всему…
И вот, обновив при помощи ведьмы свое подержанное тело, Фауст встречается с Гретхен. О самой Гретхен мы не будем много распространяться: она мила, как цветок, прозрачна, как стакан воды, понятна, как дважды два – четыре; она бесстрастная, добрая немецкая девушка; она дышит стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочем, несколько глупа. Но Фауст и не требует особенных умственных способностей от своей возлюбленной (и потому мы теперь же не можем не заметить г-ну переводчику, что он, при первой встрече Фауста с Гретхен, напрасно заставляет его говорить про нее:
Как недоступна и скромна,
И, кажется, притом умна!{37}
В подлиннике сказано: «Und etwas Schnippisch doch zugleich…» Schnippisch – непереводимое слово: оно скорее значит – жеманна в хорошем смысле… но ни в коем случае не умна).
Фауст знакомится с ней решительно и смело, как все гениальные люди; Гретхен в него влюбляется тотчас. Фауст является в ее комнату, восторженно, страстно мечтает о ней – и уходит, глубоко тронутый, не позабыв, однако ж, оставить ей подарок; потом сходится с ней у Марты; но уже сам перед этим свиданьем задал себе вопрос:
Когда, в минуту ощущенья[9],
Для новых чувств я и для их волненья
Ищу имен и не могу найти;
Когда потом всё в мире пробегаю,
Сильнейшие из сильных слов хватаю.
И огнь, которым так горю,
Зову безмерным, бесконечным,
Неизменимым, вечным, —
Ужели ложь я говорю?
У Марты Гретхен сознается ему в любви (нам нечего говорить, что все эти сцены – верх совершенства)…И Фауст, – счастливец Фауст спешит, вы думаете, к наслажденью? Нет, он спешит в леса предаваться новым мечтаниям и благодарит Могучего Духа за то, что он дал ему способность проникнуть в грудь природы, как в сердце друга… Кстати, мы должны обратить внимание читателя на одну весьма важную ошибку г-на переводчика. В своем «Обзоре обеих частей „Фауста"» он говорит следующее: «Маргарита падает… Вслед за тем опомнившийся Фауст покидает свою жертву, удаляется в пустыню, предается там созерцанию природы и собственной души своей».{38} Это предположение г. Вронченко о времени падения Маргариты неверно, во-первых, психологически, во-вторых, фактически: у Гёте явно сказано, что падение Маргариты совершается после возвращения Фауста; вот его собственные слова в собственном переводе г. Вронченко: