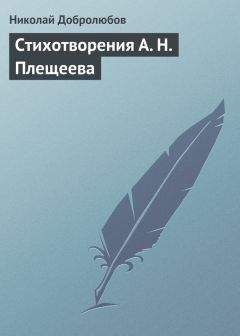Николай Добролюбов - Благонамеренность и деятельность
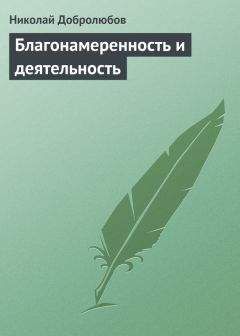
Помощь проекту
Благонамеренность и деятельность читать книгу онлайн
[«Так, значит, надо считать главным препятствием это важное лицо, благодетеля Городкова?..» Боже мой, какой наивный вопрос!.. Неужели нужно отвечать на него?.. Нет, нет, и тысячу раз нет: благодетель Городкова тоже должен быть отнесен к несчастным и неразумным путникам, – и не только он, но и его начальник, и начальник его начальника, и всякий человек вообще, вся среда…
Кто же виноват во всем этом, где же коренное начало всех этих помех, толчков и беспокойств?
А где начало толчков, которые вы получаете в узком переулке, выводящем к какой-нибудь ярмарочной площади? – Не виноват тут никто: вас толкает и теснит один, потому что его теснит другой, а того третий. Но вся причина в том, что к ярмарочной выставке все спешат, а улица тесна… Хотите не испытать толчков в своем путешествии для закупок нужных вам вещей? Не деритесь понапрасну с людьми, бегущими вместе с вами, – а постарайтесь устроить вместо кратковременной ярмарки постоянный торг да сделайте улицу пошире. Тогда и не будет никакой давки и «среда» перестанет обременять нас.
Но чтоб устроить такой торг, надо иметь капитал, и довольно большой; а] юноши наши тем-то и плохи, что их одолела всяческая скудность и нищета. [Недостатку большого капитала еще можно бы помочь: недаром у нас нынче развились акционерные компании, и все делается на паях и в складчину. Но, к несчастью, этим беднякам и в складчине-то участвовать нечем: ничего-то они не умеют, ничего не знают, ни на что не годятся. Ежели их дожидаться, то придется капитал составлять медленнее, чем Акакий Акакиевич скапливал деньги на шинель.] Вместе с прекрасными желаниями, в них господствует такая вялость, [запуганность,] такое младенчество воззрения, что на них столько же мало надежды в практическом отношении, как и на пустейших фатов и закоренелых взяточников. У г. Плещеева (мы берем примеры только из его повестей, но могли бы привести и много других), например, Костин – чего, кажется, добродетельнее? А между тем припомните эту повесть (она была в «Современнике»): какая наивность, какое незнание жизни, какая неопределенность в средствах и цели и какая бедность средств у этого прекрасного, безукоризненного юноши!.. Он умирает в чахотке (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно как и у г. Тургенева и других, умирают от изнурительных болезней), ничего нигде не сделавши; но мы не знаем, что бы мог он делать на свете, если бы даже и не подвергся чахотке и не был беспрерывно заедаем средою. Нам пришло в голову: что, если бы Костина поселить в Англии, не давши ему, разумеется, готового содержания; что бы он стал там делать, на что бы годился?.. По всей вероятности, и там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка… Да там о нем и не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся характером и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить.
Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повестей г. Плещеева, если бы видели, что он сам не возвышается над поклонением благонамеренности своих героев. Но мы заметили в нем и другое, более простое и правильное отношение к ним, в котором уже обнаруживается требование дела, а не одних желаний и надежд. Если г. Плещеев с преувеличенной симпатией рисует нам своих Костиных и Городковых, так это, конечно, зависит от того, что других, более выдержанных практически типов, в том же направлении, до сих пор еще не представляло русское общество. Что же делать? Недавно мы видели, как один из талантливейших наших писателей пробовал создание дельного практического характера и как ему мало удалось это создание, несмотря на то, что [он взял еще не русского человека и] дал ему такую цель жизни, которая представляла полную возможность наполнить его историю самой живой деятельностью…{18} Видно, еще не пришло время создания деятельных и твердых и в то же время честных характеров в нашей литературе. Но оно приближается: самые попытки доказывают это, как бы они ни были неудачны.
А с другой стороны, о том же самом свидетельствует и распространение иронического воззрения на всех «лишних людей», которым так много симпатизировали прежде.
Это ироническое отношение замечаем мы и во многих повестях г. Плещеева. Его герои вообще разделяются на три разряда; одни умирают от чахотки, – это лучшие (смотри выше); другие спиваются с кругу, – это тоже не совсем дурные; третьи устраиваются так себе, женятся на богатых, успешно служат и т. п., – это уж совсем пустые. Собственно говоря, если смотреть с общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: все бездельничают – не столько потому, что нельзя ничего делать, сколько потому, что ленивы и ничего не умеют, и все губят себя и тех, кто их любит, не по злости и не с намерением, а просто по невинности рассудка и по бесхарактерности. Поземцев (в повести «Призвание»), принадлежащий к последнему разряду, женится и губит свою жену, грубым образом заводя связь с какой-то кокеткой и делая жене бессовестные упреки; Буднев{19}, второго разряда, точно так же бестолково женится и губит свою жену тем, что влюбляется в какую-то девчонку, на которую тратится, скрывает от жены причину своих долгих отлучек, своей печали и, наконец, запивает горькую. Так точно Пашинцев (удостоенный автором даже несчастной смерти) расстраивает семейное счастие, принявшись «развивать» и привязавши к себе девушку, к которой сам ничего не чувствовал и которая была уже невестой другого; то же самое делает и Ивельев, принадлежащий к самому последнему разряду (в «Шалости»). Положим, что Ивельев это делает просто от безделья, из праздного любопытства, а Пашинцев с долею искреннего убеждения, что он принесет пользу девушке; но результаты-то одни и те же. Как видите, если сделать resume из повестей г. Плещеева, то выйдет, что хорошо толкующие и благонамеренные юноши не могут даже «гордиться тем, что не вредят». Костин, Городков, Заборский, правда, не делают того, что другие; но и они, по неуменью соображать свои средства с предстоящим им делом, тоже скорее способны вредить тем, кто их любит, нежели приносить пользу. Костин, например, совершенно безвинно сделался причиной страданий бедной женщины, полюбившей его, жены того помещика, у которого был он учителем детей: и беда была не в том, что она полюбила его, а в том, что он ничего не мог для нее сделать, не мог даже убежать никуда с нею, так как сам не имел ни пристанища, ни копейки, да и никакого таланта за душою.
Разумеется, если рассуждать психологически, то мы никак не поставим Костина на одну доску с каким-нибудь Поземцевым или даже Пашинцевым. Как можно! Но в отношении к делу от них от всех, по нашему мнению, один толк. Вот почему нам приятно то отрицательное, насмешливое отношение автора к подобным героям, какое мы видим в «Шалости», в «Наследстве», в «Призвании» и др. Нам кажется только, что такое отношение надобно еще распространить… Нам теперь вовсе не нужны люди с хорошими мечтами и с идиллическими ожиданиями. Мы пожили довольно, стали несколько опытны, и сами уже большею частью понимаем, что хорошее – хорошо, а дурное – дурно. Руководителей для этого нам не нужно. Даже для искоренения общественных неправд не так уже нужно слово убеждения, как нужно практическое пособие. Мошенничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать других и каждую минуту бояться за себя, чтоб тоже не затоптали, – это никому не может быть приятно, за это никто не станет особенно держаться. Поэтому нечего кричать людям: не ползите, а идите прямо, не купайтесь в луже, не ешьте гнилого хлеба; это всякий рад сделать и без нас. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свежего провианта. Иначе самые искренние, благонамеренные крики будут иметь то же значение, как и фразистая подделка под филантропию, и какой-нибудь современный Костин рискует быть поставлен на одну доску с г. Кокоревым: от воззваний того и другого польза одинаковая{20}.
Нечего опасаться, что практические начинания дельных людей встретят противодействие в «среде». Среда эта, по преимуществу состоящая из людей добродушных, спокойных и даже отчасти апатичных, довольно живо и верно изображена во многих повестях г. Плещеева, даже чисто анекдотического характера. Из всех этих рассказов, сцен и описаний этого простого быта без всяких претензий – можно видеть, что, при всей видимой апатии и неразвитости этих людей, есть и у них [что-то гнетущее, от чего они хотели бы избавиться, есть] смутное сознание неудовлетворительности своего положения. Уже одна возможность таких историй, какая описана в повести «Отец и дочь», с казначеем, у которого начальник взял казенные деньги без расписки и потом отрекся, – или хоть таких, как в «Чиновнице», где назначение чиновника на место зависит от горничной жены [важного] начальника, – одна возможность таких происшествий должна пробуждать чувство положительного недовольства. Никакого сомнения не может быть в том, что все эти «отсталые, невежественные, закоснелые в рутине» и пр. и пр. люди, как их честят прогрессивные юноши, с радостью примут все, что может им доставить [прочные гарантии в общественной жизни и] возможность, не мошенничая, пользоваться ее благами. Только не накидывайтесь на них без всякого права и резона, не требуйте от них того, за что не можете вознаградить их. У них нет самоотвержения, нет и инициативы: в этом их горе, их вина, если хотите. Но ведь инициативою-то в своем характере и вы не можете похвастать, о добродетельные и благонамеренные юноши, выставленные нам напоказ нашей литературою! Самоотвержение ваше тоже более отрицательное и пассивное, так что мы значительную долю его приписываем лени, обломовщине. Вы не лезете за неправым стяжанием и почетом, [за чинами, орденами и отличиями,] за домами и деревнями: так, – да ведь вы и ни за чем не лезете. Конечно, Тентетников не ездит покупать мертвых душ, как Чичиков; да он, если бы и захотел, так не мог и не сумел бы этого сделать: он и в своем-то имении не выдержал, упрыгался на первых же порах и прекратил всякий надзор над работами. Что же тут за самоотвержение? Этаким-то самоотвержением Обломов и выработал себе свой характер.