Сергей Булгаков - Чехов как мыслитель
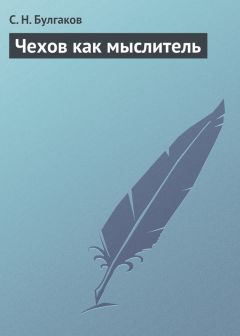
Помощь проекту
Чехов как мыслитель читать книгу онлайн
Характеризуя общее мировоззрение Чехова, нельзя не остановиться и на его общественном мировоззрении. Тема «Чехов как мыслитель» логически как частность включает в себя и тему «Чехов как гражданин»: с этой стороны Чехов, поскольку он выразился в своих произведениях, далеко еще не нашел себе согласной и общепризнанной оценки. Долгое время Чехова обвиняли прямо, а может быть, еще и обвиняют, в гражданском индифферентизме. Наличность последнего связывается с таким серьезным нравственным дефектом, что в возможности его у столь крупного художника позволительно было бы усомниться уже a priori. Но и фактически это совершенно неверно. Чехов представляется нам не только великим художником, но и отзывчивым гражданином, и пламенным патриотом, и то великое и благородное сердце, которое, утомившись болеть за нашу жизнь, навсегда остановилось в Баденвейлере, не делилось на участки с горячей и холодной кровью, но все горело любовью к родной стране. Поэтому возводят кощунственную хулу на художника те, которые приписывают ему гражданский индифферентизм. Легко понять, почему сложилась эта легенда. Как могучий художник Чехов сумел сохранить свою свободу от какой бы то ни было тенденциозности и предвзятости в своем творчестве. Чехов прежде всего был художник, а не политик. Подчинить художественное творчество какой-либо практической цели, как бы ни была она сама по себе почтенна, для Чехова значило бы художественно солгать. Чехов, при всей щепетильности чувства художественной правды, был неспособен ко лжи, естественные же свойства его таланта вели его непроторенными путями. Таким образом вышло, что Чехов не отдал своего таланта на службу ни одному из существующих направлений, а сам составил свое собственное направление согласно пушкинскому завету:
…Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный[20].
Везде тяжело одиночество, в России же, в силу своеобразных условий русской жизни, стоять вне направлений есть настоящий подвиг нравственного мужества, и Чехову недешево он достался. Но не будем больше вспоминать об этом.
Мировая скорбь, которою болел Чехов, ни психологически, ни логически не противоречит и не исключает скорби гражданской: Байрон был пламенным провозвестником свободы и сам погиб за политическое освобождение Греции. Леопарди оплакивал порабощение Италии. И у Чехова можно найти следы гражданской скорби, боли по поводу общественных язв нашей жизни. Только не нужно требовать от художника того, что составляет задачу экономиста, политика и публициста: социальных рецептов и политических программ. Оставаясь верным своей непосредственной задаче, художник должен стремиться дать правдивое художественное обобщение, верную картину жизни со всем ее нестроением. Конечно, рамки и, так сказать, захват этой картины может быть различен, в ней могут отсутствовать некоторые интересные стороны жизни. Нельзя отрицать, что и у Чехова есть такие пробелы. Но это есть дело художественной индивидуальности, и некоторая ограниченность неизбежна и для самого крупного дарования.
Оставляя в стороне целый ряд общественных вопросов, затронутых в произведениях Чехова, как то: о проституции («Припадок»), о судах («Злоумышленник»), о ссылке и уголовной репрессии (полупублицистическая работа о Сахалине), – остановимся только на самом важном.
На первое место следует поставить заслуги Чехова как бытописателя крестьянского разоренья. Его «Мужики», «Новая дача», монолог доктора Астрова в «Дяде Ване», наравне со страницами «Воскресения», где описывается пребывание Нехлюдова в деревне, дают поразительную художественную картину современного крестьянского разорения, того, что на языке экономической науки называется аграрным кризисом и оскудением земледельческого центра и имеет в ней вполне определенную статистическую характеристику, выражающуюся в цифрах недоимочности, безлошадности, голодовок, сокращения народного потребления и т. д., и т. д.
С поразительной правдивостью рисует Чехов в «Новой даче», как на фоне этого обнищания и отупения создается средостение, классовое отчуждение между барином и мужиком, о которое разбиваются даже лучшие намерения «новых дачников», и неумелые попытки их сблизиться с народом терпят полное фиаско.
В других произведениях Чехова, главным образом «В овраге», мы имеем изображение и другой стороны того же социального процесса, картину так называемого первоначального накопления, хищнической стадии развития капитализма, со всеми отвратительными ее подробностями, с яркими симптомами разложения старого быта и нарождения новых общественных классов. Картина эта способна удовлетворить самого строгого экономиста, который пожелал бы проверить на ней теоретическую схему первоначального накопления. С такой же тонкостью подмечена Чеховым стихийность, противообщественность и внутренняя дезорганизованность уже сложившегося капиталистического производства, социально-экономической организации, следующей за первоначальным накоплением и на нем утверждающейся. Чехов отмечает черты, которые в своей совокупности политическая экономия определяет как фетишизм товарного производства (в рассказе «Случай из практики», отчасти и в «Бабьем царстве»).
Стихийность капиталистического производства выражается в том, что им создаются необходимые принудительные отношения, благодаря которым непреднамеренно вызывается масса ненужных страданий, социального зла, и в то же время нет виноватого индивидуально, нет преступника, виноваты лишь преступные социальные отношения. Эта безличность основного социального зла в капитализме, по сравнению с которой сравнительно второе место занимают индивидуальные ухищрения, этот фетишизм «капитализма» или маммонизма, как любил его называть Карлейль, несколькими штрихами охарактеризован в «Случае из практики».
«Тут недоразумение, конечно, – думал доктор, глядя на багровые окна. – Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара: сотня людей надзирают за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет во все удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».
А вот какими чертами герой «Моей жизни» у Чехова характеризует общие социальные условия нашего времени. «Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае». В этих словах формулирована во всю свою этическую ширь величайшая проблема наших дней, поставленная нам историей, имя ей – социальный вопрос. Вы видите, что Чехову вовсе не оставалось чуждым понимание этой проблемы; очевидно, что и она составляла предмет его размышлений, результаты которых проскальзывают то здесь, то там.
Нам уже приходилось по другому поводу говорить о демократизме Чехова. Этим демократизмом проникнута каждая его страница, это не только сознательное убеждение, но стихия, даже бессознательно проникающая его творчество. И демократический художник, говорящий о социальных нуждах и болезнях своего времени, тем самым и неизбежно становится и обличителем, социальным пророком своего времени, будителем общественной совести, подобно студенту Васильеву (из «Припадка»), который хотел «идти на угол переулка и говорить каждому прохожему: „Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы Бога“».
«Надо, – говорится в „Крыжовнике“, – чтобы за дверью каждого довольного и счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потеря, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». Чувство социальной ответственности, обязанности перед народом, социального покаяния, которым преисполнена, которым определяется вся наша пореформенная литература, весь наш духовный облик, торжественным гимном звучит в пении метели (в рассказе «По делам службы»), соединяющемся с образами сотского и безвестного самоубийцы. «Мы идем, мы идем, мы идем… Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем, и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы. То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни, – как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни – это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или усмешкой, но к которым не идут на помощь… И опять:























