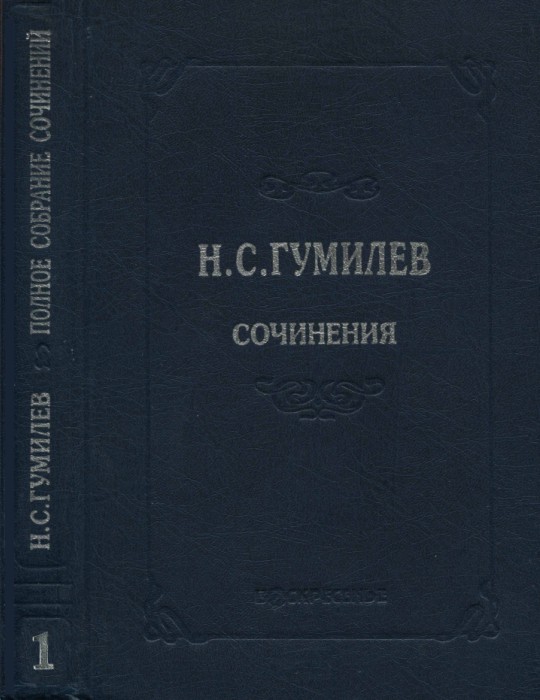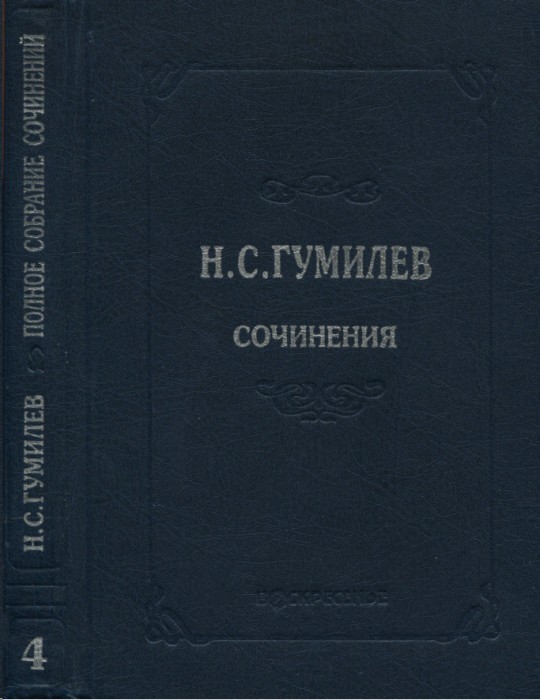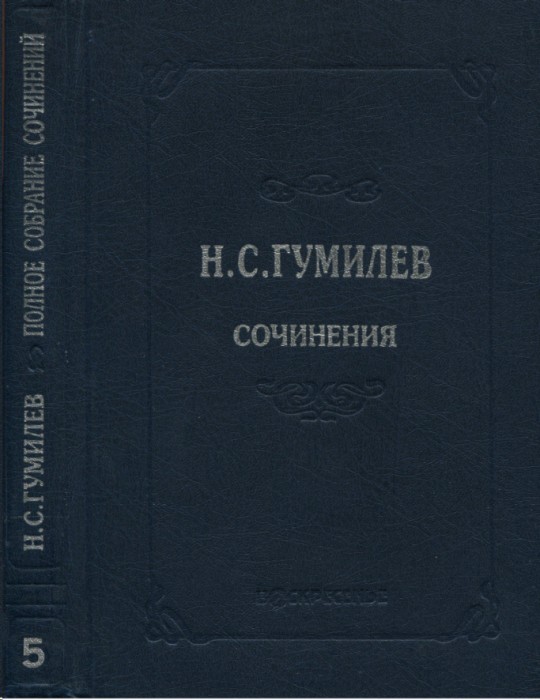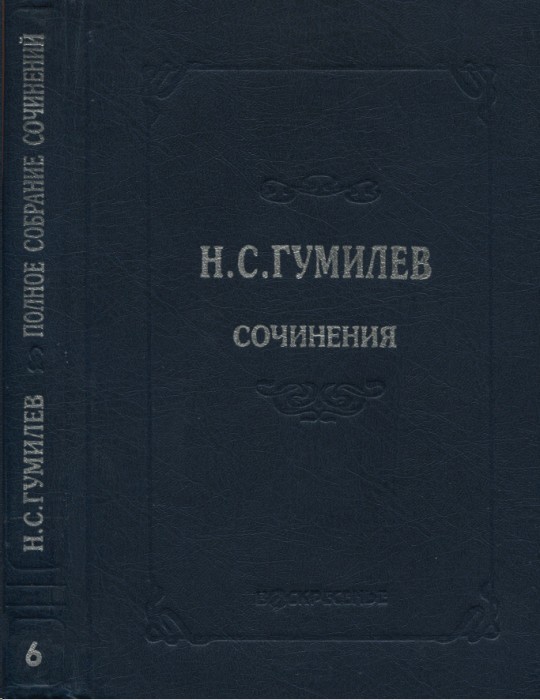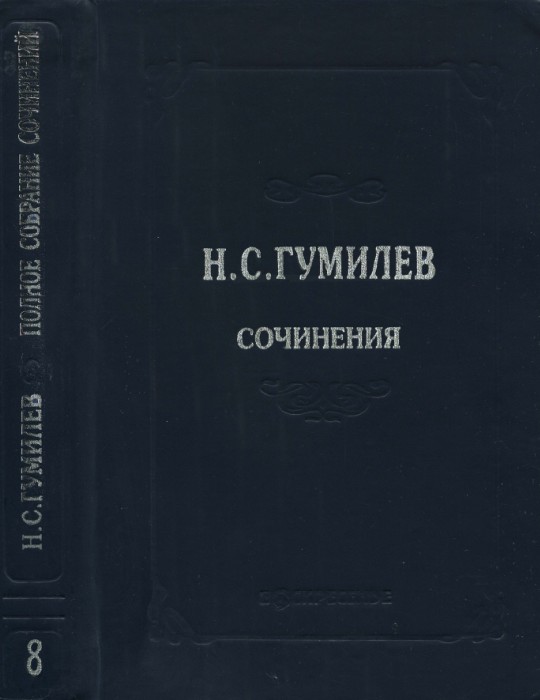Полное собрание сочинений в десяти томах. Том 7. Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии - Николай Степанович Гумилев
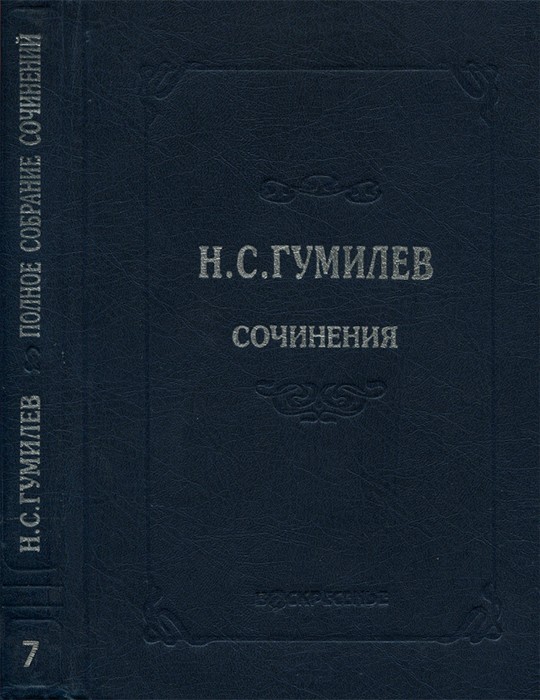
Помощь проекту
Полное собрание сочинений в десяти томах. Том 7. Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии читать книгу онлайн
Автор прав, говоря, что его книга «одно в себе». Это настоящий роман, но без фабулы, без картин. Пусть в нем появляются то Пушкин, то Гейне, то Ибсен, то Достоевский, мы чувствуем, что это только личины, которые автор по странному, а может быть, и глубоко обоснованному капризу не пожелал претворить в собственные образцы, и что единство времени и места соблюдено с точностью почти педантической. Но что в наше время пленительнее педантизма?
Время Экклезиаста прошло безвозвратно. «Суета сует и всяческая суета» для нас только «медь звенящая, кимвал бряцающий». Мир стал больше человека, и теперь только гимназисты (о, эти вечные гимназисты мысли!), затосковав, шалят с пессимизмом. Взрослый человек (много ли их?) рад борьбе. Он гибок, он силен, он верит в свое право найти землю, где можно было бы жить. Мне представляется, что автор «Книги отражений», почуяв первое веянье древней тоски, не улыбнулся и не нахмурился, а вздохнул облегченно, как человек, наконец нашедший свое дело. Колдовством своей бессонной мысли, как Аэндорская волшебница, стал вызывать он тени былых пророков и царей, чтобы говорить с ними о деле жизни. И они открыли свои тайные лица, такие нежданные и странно-знакомые. Вот Гейне, замученный жизнью, как конквистадор ацтеками, плачет и смеется в одно и то же время. Гамлет открывает наконец свою роковую тайну — вечное сомнение в своем происхождении. И Достоевский, алмазное солнце мысли, говорит, что нет ни счастья, ни печали, один холод созерцанья. Но зорко смотрит вызывающий тени, ничего не принимает на веру, ничему не говорит ни своего «да», ни своего «нет».
Книга Анненского сама нуждается в отражении, чтобы быть понятой.
Помимо многого, о чем не место говорить в коротенькой рецензии, в книгах Анненского особенно радует редкая, чисто европейская дисциплина ума. Он любит мелочи, детали нашей культуры и умеет связывать их с целым. Нам кажется не важным, кем рожден Гамлет, убитым ли королем или его убийцей. Анненский подробно разбирает вопрос и находит нити, связывающие судьбу датского принца с нашей.
На основании одной только «Тамани» он открывает нам всего Лермонтова, и, может быть, не столько Лермонтова, сколько «Того» тайного, веселого охотника за солнцами, будущего человека.
Как систематик, разбирает он сцепление идей в «Преступлении и наказании», снабжает свою статью чертежом. Но он всегда поэт, и каждая страница его книги обжигает душу подлинным огнем.
16. В. Пяст. Ограда. Стихи. Изд. Вольф. 1909 г. Цена 75 коп.
В книге встречаются несколько эпиграфов из Эдгара По, в литературных кругах говорили о влиянии его на молодого поэта. Но, по-моему, последний ближе английским прерафаэлитам, чем великому математику чувства. Та же задумчивость, то же отсутствие позы и естественное благородство линий. Только, пожалуй, больше мягкости, переходящей иногда в расплывчатость, туманность непродуманного мистицизма. Вообще это отличительное свойство данной книги — усталость много испытавшей крылатой души, за которой не поспевает мысль.
Мысль, как литературный прием, у Пяста особенно находится в загоне. Он даже как будто бравирует своим отношением к ней, создавая стихотворенья, где нет ничего, кроме образа, страстного порыва. Его переживания исчисляются секундами, но как светлы эти секунды. И стихи его, сплошь и рядом лишенные структуры, живут, как пущенная стрела, пронизывающим их трепетом полета. Иногда чувство доходит до такой напряженности, что создает почти явственный слепок мгновения. Таково стихотворение, начинающееся словами:
Мы замерли в торжественном обете,
Мы поняли, что мы Господни дети.
Как технику, Пясту недостает многого: излюбленные им ипердактилические рифмы раздражают ухо, стих не гибок, порой вял, и особенно чувствительна бедность языка. Хотя, с другой стороны, иное богатство приводит к тому, что воображаешь себя в лавчонке торговца редкостями посреди всех этих отравленных стрел, морских ежей, подсвечников и битых греческих ваз.
И я рад за Пяста, что у его книги есть недостатки, исключающие ее из круга вагонного чтения.
17. Французские лирики XIX века. Перевод Валерия Брюсова, 1909 г. Пантеон. Цена 2 руб.
Надо написать исследование по крайней мере в двадцать томов, чтобы сколько-нибудь обстоятельно рассмотреть и определенные школы, и подводные течения французской лирики XIX века. Это одна из наиболее значительных и сложных страниц всемирной поэзии.
И когда мы видим такое исследование всего в одном пухлом томе, да еще считая переводы, мы можем с уверенностью сказать, что познакомимся не с предметом, а только с мнением составителя. Так и есть. Как критик и историк литературы, Валерий Брюсов встает в этой книге во весь рост. Он сразу подчиняет себе свою тему и гипнотизирует читателя, доказывая, до чего она проста. Вот романтизм, ведущий свое начало от Андре Шенье, от него выход через Теофиля Готье к парнасцам. Парнасцы попали в зачарованный круг формы и условности, Стефан Малларме и Поль Верлен разрывают этот круг — отсюда символизм. Последний в свою очередь разбивается на три основные течения: чистый символизм Анри де Ренье, бельгийскую школу Жоржа Роденбаха и научную поэзию Рене Гиля. И, по обыкновению, Брюсов пожелал скрыть себя за этой великолепно простой системой, так что мы, видя здание, только по отдаленному эху последних ударов можем догадаться, кем оно воздвигнуто.
Правильно ли, однако, такое хронологическое деление на школы? Не следует ли отнести Альфреда де Виньи к символистам или, по крайней мере, к парнасцам, как тоже несомненным творцам символа, отметить, как важный симптом, неустанные проблески классицизма (за последнее время хотя бы в лице Мореаса)? Хорошо ли обращать серьезное внимание на «научную поэзию», мертворожденную уже по одному тому, что ее теория создалась раньше практики?
Хотелось бы, чтобы Брюсову эти вопросы были безразличны: он сказал свое мнение, свой каприз, может быть, — пусть другие ломают из-за него копья.
Но есть средство узнать душу поэта, как бы искусно он ее ни скрывал. Надо вчитаться в его стихи, по вспыхивающим рифмам, по внезапным перебоям ритма угадать биенье сердца. И как приятно заметить читателю, что неистовые фанфары Гюго в переводе Брюсова стали значительно тише, что дикий Роллина оказался способным к холодной нежности, что образы Верлена могут быть четкими. Зато Леконт де Лиль ничего не потерял из своего великолепия, Стефан Малларме из своей глубины и изысканности.
По этим признакам можно опять угадать чисто брюсовское тяготение к классичности, не академиков и не плакальщиков Эллады, а к истинной классичности гениев всех веков и стран.
18. Валериан Бородаевский. Стихотворения.