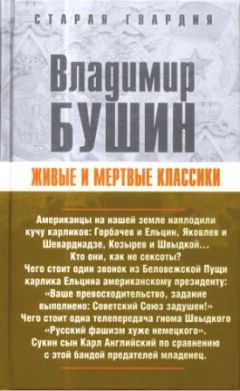Владимир Бушин - Живые и мертвые классики
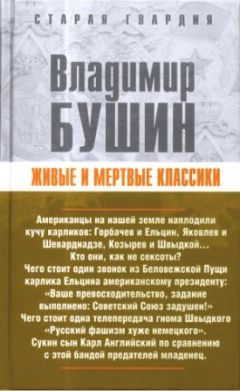
Помощь проекту
Живые и мертвые классики читать книгу онлайн
Удивителен рассказ Бакланова и о том, как он оказался в армии: «На ту станцию, куда мы эвакуировались (он ее почему-то не называет. — В.Б.) прибыл вырвавшийся из окружения артполк». Прибыл, разумеется, для пополнения и переформирования. Но — не куда-нибудь, а именно «далеко за Пермь» в предгорье Урала? Ну, допустим. И вот молодой человек является прямо в штаб к командиру и просит взять его в армию, зачислить в полк. Странно. Так поступали мальчишки и подростки, становясь «сынами полка», а тут парень, которому идет девятнадцатый год, призывник. Да почему же не через военкомат, как все ровесники?
Происходит столь же странный разговор. Комполка спрашивает: «Вы буссоль знаете? А стереотрубу? А телефонный аппарат?» Что за чушь! Какая буссоль? Перед ним вчерашний школьник, он, конечно, ничего этого не знает. Никаких экзаменов призывникам никто никогда не устраивал, а только — медосмотр, о котором здесь — ни слова. «Я понял, — пишет автор, — что меня не возьмут (Как будто брали только тех, кто знал буссоль! — В.Б.). И тогда сказал, что на фронте погиб мой брат, и я хочу на фронт». А брат погиб «на подступах к Москве», т. е. в октябре-ноябре или даже в декабре сорок первого. Вот после той поры, выходит, Бакланов и попал в армию. Ему было хорошо за 18. Поэтому странно и то, что он говорит: в феврале 1942 года «я был самым молодым в полку». Почему? Восемнадцатилетних было множество. И я в том же сорок втором оказался на фронте в 18 лет.
Среди первых фронтовых впечатлений Бакланова тоже кое-что удивительно. Он пишет, что 34 армию, куда он попал, не снабжали питанием: «Нам говорили, что все (!) продукты отсылают в другую армию», т. к. она выполняет более важную боевую задачу. Кто говорил, какая это была армия, по обыкновению умалчивает. А позже я узнал, говорит, что и ту неназванную армию не снабжали, уверяя и ее солдат, что «все (!) продукты отсылают нам, в 34-ю армию, потому что основные бои идут у нас» (там же, с.536). В состав 34-й армии входили пять дивизий — три стрелковые и две кавалерийские — а также ряд отдельных частей. Это тысяч 50 человек, а то и больше. В той, неназванной, надо полагать, примерно столько же. Так вот, две армии, более 100 тысяч человек вели упорные бои, но их не кормили, морили голодом, куда-то девая все продукты, предназначенные им, уверяет писатель-фронтовик. Таковы, дескать, были порядки в Красной Армии, такие ворюги были снабженцы… На каких идиотов, Гриша, ты рассчитывал?
Все в жизни у него по плануНо вернемся к Солженицыну. Бакланов корит его тем, что он не пошел на фронт добровольцем. Так ведь огромное большинство шли на фронт по повесткам. Тут возникает другой вопрос: не хотел ли Солженицын вообще улизнуть от армии?
Александр Островский в книге «Солженицын. Прощание с мифом» (М., «Яуза». 2004) пишет: «Очень странно, что Солженицына призвали в армию только через четыре месяца после начала войны. (По Указу Президиума Верховного Совета 22 июня 1941 года его возраст призывался в первую очередь. — В.Б.). И почти невероятно, что его, окончившего физико-математический факультет университета с отличием, в условиях нехватки офицерских кадров, направили в обоз» (с. 29). Сам Солженицын в автобиографии для Нобелевского комитета писал, что оказался в обозе «из-за ограничений по здоровью». Его первая жена Н.Решетовская писала: «Саня был ограниченно годен к военной службе, виной была его нервная система». «Все, что до сих пор известно о нем, — резонно замечает А.Островский, — свидетельствует: его «нервной системе» можно только позавидовать» (там же). Воистину так!
Однажды Твардовский и Владимир Лакшин уговаривали его вести себя сдержанно и разумно, не выходить из себя, не взрываться на предстоявшем заседании Секретариата СП, на котором будут обсуждаться его дела. И он пишет в «Теленке»: «Открою вам тайну, — сказал я им. — Я никогда не выйду из себя. Я взорвусь только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте или — сколько раз в заседании. А нет — пожалуйста, нет» (с. 181). Или вот ведет важный разговор и признается: «Я из роли — ни на волосок» (с. 331). Т. е. из роли, которую заранее себе назначил и спланировал.
Но можно говорить не только о железных нервах. В студенческие годы он предпринимает с приятелем длительные путешествия на велосипедах по Украине, по Кавказу, на лодке — по Волге, потом — почти два года на фронте, восемь лет лагерей, перенес болезнь, операцию, вышел на свободу и опять бесконечные путешествия, в том числе, как в молодости, и на велосипеде, наконец, дожил почти до 90 годов. Какие же ограничения по здоровью? Какие нервы? Все тут было в полном и поистине завидном порядке.
А правда состоит, как видно, в том, что справку об ограниченной годности Солженицыну еще до войны помог получить отец его школьной подруги Лиды Ежерец, который был врачом, — так Островскому рассказала Решетовская. Между прочим, мы с Баклановым знали Ежерец как Лидию Александровну Симонян. Она в Литинституте читала нам курс современной западной литературы.
Должно быть, эта справка помогла и отсрочить призыв на четыре месяца, и попасть в обоз. Но потом, видимо, все-таки нависла угроза отправки на фронт, несмотря на справку. И вот тогда, писал Солженицын в той же биографии, «сверхсильным напором я добился перевода в артиллерию». Ну, не в артиллерию, а в артиллерийское училище. Он попал туда в апреле 1942 года и прокантовался там до февраля 1943 года. А что это был за «сверхсильный напор» рядового обозника, остается только гадать. Несомненно одно: действительно ограниченно годного в офицерское училище не приняли бы. Это я знаю по себе: в том же 1942 году именно по здоровью меня не приняли в офицерское училище и направили в Гороховецкие лагеря, а оттуда — прямехонько на фронт.
Солженицын отдает на съедение КГБ детей. Чьих?Удивительно, что многократно уличая Солженицына во лжи и притворстве, в демагогии и лицемерии, Бакланов пишет: «Возможно, во имя цели он действительно готов был пожертвовать даже своими детьми: его выслали из страны, а трое сынов его маленьких остались здесь вроде бы в заложниках, и он писал: «Тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги («Архипелага») мы с женой не оставим ни за что». Книга с заглавной буквы. Так пишут о (!) Библии. Цель и самооценка — грандиозные».
Вот уж поистине, на всякого мудреца довольно грандиозной простоты! Да ведь свою Книгу Солженицын беспрепятственно закончил, а его жена Светлова отредактировала и сфотокопировала ее со всеми дикими нелепостями, включая Наполеона-Железняка, в мае 1968 года, а в июне того же года они столь же беспрепятственно переправили Книгу во Францию в надежное антисоветское издательство IMKA-PRESS. Все, дело было сделано (там же, с. 212). А первый сын Ермолай родился у них уже после этого — в феврале 1970 года, Степан — в сентябре 1972-го, Игнат — в конце 1973-го. А в декабре 1973-го «Архипелаг» и вышел беспрепятственно. Так что, когда принималось «сверхчеловеческое» решение, детей у Солженицына просто еще не было. А был у жены шестилетний сын Дима от прежнего брака. Выходит, пасынком Солженицын и готов был пожертвовать. Это полностью в его духе. К слову сказать, вскоре Дима и умер.
А главное, ведь это же сам Солженицын, как всегда, «видел за них такие пути: взятие заложников, моих детей». И только Бакланову мерещатся тут кровавые кошмары. А у «них» того и в мыслях не было. В сообщении ТАСС о высылке писателя-антисоветчика, опубликованном в «Известиях» 14 февраля 1974 года, говорилось: «Семья Солженицына сможет выехать к нему, как только сочтет необходимым». Через год она и выехала.
Явленная здесь доверчивость Бакланова не единственная в своем роде. Вот так же всей душой поверил он рассказу уже в дни демократии покойного академика Лихачева, что однажды в Соловках его хотели расстрелять, у охраны, видите ли, патроны были лишние, но он ловко спрятался за кучкой дров и его не нашли, и только благодаря этому дожил он почти до ста лет. Интересно, а верит ли Бакланов рассказу Лихачева, что по мере необходимости он с разрешения начальства ездил из Соловков в Ленинград поработать несколько дней в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Правда, это он рассказывал по телевидению еще в советское время. Неужто заставили старика так врать под угрозой расстрела?
Немало у Бакланова и других антинаучных деталей, относящихся к Солженицыну. Так, он уверяет, что «весь пропагандистский аппарат второй сверхдержавы(!) был брошен на то, чтобы растоптать повесть «Один день Ивана Денисовича».
Гриша, что с тобой? Ведь повесть была напечатана по решению самого Хрущева и с предисловием Твардовского. И тотчас хлынули хвалебные статьи о ней известных писателей и критиков в самых-самых ответственных газетах: в «Известиях» — Константина Симонова, в «Правде» — Владимира Ермилова, в «Литгазете» — твоя… И не было им числа. А вскоре — ведь сам же пишешь — «вслед за журналом повесть срочно выпустили книгой, а еще — в «Роман-газете» тиражом в несколько миллионов». Где ж свирепая сверхдержава с армиями, флотами и ракетами?