Константин Аксаков - Обозрение современной литературы
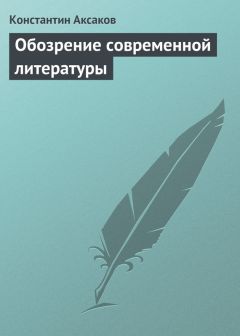
Помощь проекту
Обозрение современной литературы читать книгу онлайн
Особенность таланта г. Писемского, указанная нами, выражается больше или меньше во всех его произведениях. В «Тюфяке», в «Батманове», в «Богатом женихе». Есть что-то особенно странное в этом романе «Богатый жених», не поймешь никак отношения писателя к своему произведению, и оттого никак не дашь себе отчета в лицах или в том свете, в котором они выставлены. Роман, в первых главах, еще не дурен, но далее идет вяло: лица повторяют себя с изменениями, и кажется, как будто всем им очень скучно в романе. Шамилов, по нашему мнению, не выдержан, он сперва является просто пустоголовым человеком, даже дрянью, и только; между тем он тут же обнаруживает подлость, которая едва ли в его характере, подлость и низость первой степени: он строит свои надежды и мечтает с удовольствием о том (хотя мечты имеют основание только в его голове), что девушка, им любимая, – побочная дочь богатого князя. Девушка не виновата, если б это было так, и препятствием для замужества это быть не должно, но строить свои надежды на ее незаконном рождении, на позоре ее отца и матери, но помышлять об этом с удовольствием – кто может, кроме самого низкого и подлого человека? Среди характеров и лиц незавидных в романе г. Писемского является покровительственный гений,
С лучезарною звездой,
на фраке: это старый князь Сецкий. С такою же звездой и такой же покровительственный гений, Томский, в романе «Силуэт» г. Вонлярлярского, – «Томский, добродетельный и благородный Томский», посылающий (пусть и для доброй цели) своего чиновника хлопотать и шпионить по своим частным делам, т. е. делам друзей своих, а это все равно. Аристократические особы, Томский, князья Сецкий, Чельский, Гремовицкий, начинали попадаться в наших романах и повестях, грозя заменить собою некогда славное поколение Греминых, Славиных и Брониных Марлинского[28], но, кажется, опять спрятались и хорошо сделали. Впрочем, нет. В «Отечественных з<аписках>» явилась повесть г. Данковского[29], достойного преемника Марлинского и г. Вонлярлярского; повесть, в которой является аристократ граф Карелин, который словечка в простоте не скажет, все с ужимкой, но не mauvais genre[30], a comme il faut[31]. Ведь светское comme il faut – та же ужимка, как простота кокетки есть высшая искусственность.
Самое замечательное произведение г. Писемского, которое содержанием своим и формою (это рассказ) пришлось по его таланту и в котором талант его поэтому мог выразиться и выразился сильно – это «Фанфарон».
Не так еще давно появился новый драматический писатель, произведший сильное впечатление. Первая пьеса его, которая имела такой успех, была «Свои люди – сочтемся». С тех пор он продолжал писать драматические сочинения. Необыкновенная меткость глаза, устремленная, однако, чересчур на мелкие признаки речи, верный взгляд на современный вопрос русского общества ставят всякое произведение этого писателя явлением замечательным. Согласно с характерною чертою русской комедии, г. Островский берет содержанием своих сочинений вопрос общественный. Преимущественно он изображает целое сословие общественное, купечество. И в самом деле на этом сословии современный вопрос русского общества обозначается с особенною яркостью и особенным своим складом. Купечество одною стороною примыкает к преданиям быта народного, но, впрочем, представителем этого быта оно быть не может; лишенное полного единства быта со всею Россиею, – ибо быт верхних классов и примыкающего к ним чиновничества уже не тот, – отделенное своим положением, как особое сословие с правами, от простого народа, купечество является, в этом смысле, сословием замкнутым, древний русский быт становится в нем неподвижен, каменеет и уже по этому самому перестает быть верен самому себе. Быт купечества столько же похож на древний русский быт, сколько замерзшая река на текущую реку. Сверх того, внутри той стены, которой купечество ограждает свой быт от торжества иностранного общественного быта, – очень понятно, что оно старалось найти единство, кодекс приличий для своего быта, выработало себе его условия, также неподвижные. Купечество от нововведений спасалось – в оцепенении. Одни простой народ удержал быт древней Руси в его жизни, в его живых великих началах, но о крестьянстве говорить здесь не место. Несмотря, однако, на эту недвижность быта, на искажение его внешней формы, высокие нравственные предания простоты, братства, христианской любви, семейного чувства живут в купечестве, но лишь скованные, лишь носящие на себе тяжесть внешних условий. На этот купеческий быт налетают соблазны иностранной, отрешенной от народа цивилизации, являющейся здесь в виде трактирных и театральных подвигов, в виде модных галстуков и шляпок, а главное – в виде понятия образованности, соединенной с этими гнилыми признаками образованности (разумеется, ложной), выражающейся в презрении к своему и в перенимании благородных манер. Вместе с этими благородными манерами является извинение всякого порока, вместе с презрением к своему является презрение всех нравственных начал, лежащих в своем быте. В простом народе вторжение всех этих чуждых начал не так сильно: ибо им противопоставляется быт живой, хотя и отброшенный далеко от прав и привилегий других классов, хотя и держимый в черном теле, – не так резко; ибо здесь нет той неподвижности, которая вызывает отторжение и придает ему резкость. В купечестве же эта борьба русского быта в его неподвижности (просим не забывать, что настоящего русского быта мы в купечестве не видим) с иностранным бытом в его распущенности, – имеет свою яркую определенность и важный смысл. Такое явление есть общественное и стоит изображения. На такое явление обратил внимание г. Островский, изобразил его сильно и верно. С одной стороны, видим мы у него этих старых купцов, старых по началам своим, хотя и ходящих в ограниченности быта, но берегущих в нем свои высокие нравственные начала; откинув неподвижность (но лишь одну неподвижность, не переставая быть собою), они дадут добрый плод, творя теперь, и в ограниченной своей сфере, много истинно добрых дел, подобно тому, как золото, лежащее в замкнутом сундуке, может когда-нибудь выйти на свет и приложить к добру свою вещественную силу. С другой, является цивилизованное купечество, видящее цивилизацию лишь в жалком презрении к старому быту и в усвоении себе трактирного благородства: при таком настроении, это души опустошенные, явления бесплодные, отпертые сундуки, из которых выброшены сокровища. Нам скажут, что истинное просвещение не таково. Это совершенно справедливо, истинное просвещение не таково. Но ведь цивилизацию, о которой мы говорим, мы не называем истинным просвещением. Истинное общечеловеческое просвещение народа – всегда народно, т<о> е<сть> самостоятельно.
Кроме сочинений, в которых изображается купеческий быт, г. Островский написал несколько таких, в которых изображен быт чиновничий. Такова «Бедная невеста», произведение не менее замечательное. Мы уже не говорим о верности речи (даже излишней), о мастерском изображении лиц – все это не составляет большой диковинки в наше время, – мы укажем на нравственный смысл комедии, выражающийся в лице бедной невесты, девушки, в которой слышится достоинство женщины, и поставленной среди грубого общества, среди тупой и пошлой жизни; но девушка не выставлена лицом идеальным, она изображена без всякого излишества, с чрезвычайно тонким чувством меры, с полною истиною. Эта пьеса, как нам кажется, далеко не оценена по своему достоинству.
Талант г. Островского, его верный взгляд на общественную жизнь дают нам право надеяться от него дальнейшего хода вперед.
В числе писателей самых молодых по времени выступления своего на литературное поприще находится граф Толстой (Л. Н. Т.). Но уже первыми своими произведениями гр. Толстой сейчас стал заметен между другими писателями. Произведения его «Набег», «Рубка леса», «Севастополь» отличаются наглядностью живою, прямым отношением к предмету, уважением жизни и стремлением восстановить ее в искусстве во всей правде. Его сочинения разделяются на два рода: в одних первое место занимает окружающий мир природы, люди, события; в других, напротив, на первом месте личный мир человека, внутренняя область его души. Из рассказов первого рода мы уже назвали лучшие. Слабее прочих «Записки маркёра» и «Два гусара». Вообще рассказы гр. Толстого изобилуют излишними подробностями: глаз автора разбирает по частям ему представляющийся предмет, так что теряется общая линия, их связующая в одно целое; описание, освещая ярко какой-нибудь волосок на бороде, производит разлад в целом образе, и в воображении читателя неприятно торчит какая-нибудь частица, которую автор облил ярким светом. Рассказы другого рода, рассказы личные, имеют особое значение, больше психологическое. Здесь идет рассказ о самом себе; это не значит, чтобы автор рассказывал именно о себе, мы это предполагать не имеем права, и не в этом дело; довольно того, что здесь я говорит о самом себе, что здесь идет личный рассказ. К этим личным рассказам относятся «Детство», «Отрочество» и «Юность». Здесь, с самого начала, кроме прекрасных картин окружающей жизни, – впрочем, описание окружающей жизни доходит иногда до невыносимой, до приторной мелочности и подробности, – видим мы анализ самого себя. В «Детстве» и «Отрочестве» анализ имеет несколько объективный характер, ибо автор рассматривает еще не совершенного человека, но в «Юности» этот анализ принимает характер исповеди, беспощадного обличения всего, что копошится в душе человека. Это самообличение является бодрым и решительным, в нем нет ни колебания, ни невольной попытки извинить свои внутренние движения. Нет, автор строго относится к внутреннему миру души, обращается с собой беспощадно и твердо, и видишь, что он хочет одного – правды. Внутренний анализ г. Тургенева имеет в себе нечто болезненное и слабое, неопределенное, тогда как анализ гр. Толстого бодр и неумолим. Много верного подметил он в изгибах души человеческой, и это твердое желание обличения себя во имя правды само по себе уже есть заслуга и оставляет благое впечатление. Но мы, однако, сделаем здесь некоторые замечания. Анализ гр. Толстого часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания, которые проносятся по душе, как легкое облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они получают большее значение, нежели какое имеют на самом деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае становится микроскопом. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите, а все остальное останется в своем естественном виде, то нарушится мера отношения их ко всему окружающему, и, будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, ибо им придан неверный объем, ибо нарушена общая мера жизни, ее взаимное отношение, а эта мера и составляет действительную правду. Перед вами стакан чистой воды, вы увеличиваете ее в микроскоп, перед вами море, наполненное инфузориями, целый особый мир; но если вы усвоите себе это созерцание, то впадете в совершенную ошибку, и перед вами исчезнет вид настоящей воды, тот вид, который имеет всю действительность и все права на нее и находится в мире со всем миром: т<о> е<сть> стакан чистой воды. Итак, вот опасность анализа; он, увеличивая микроскопом, со всею верностью, мелочи душевного мира, представляет их, по тому самому, в ложном виде, ибо в несоразмерной величине. Кроме того: ощущениям минутным, проходящим по душе как дым, иногда вследствие того, что они-то именно совершенно не согласны с характером человека, может придать он состоятельность, которой они не имеют. Наконец, анализ может найти и то в человеке, чего в нем вовсе нет; устремленный тревожно взор в самого себя часто видит призраки и искажает свою собственную душу. Надо меньше заниматься собою, обратиться к божьему миру, яркому и светлому, думать о братьях и любить их, – и тогда, не теряя самосознания, станешь и себя видеть и чувствовать в настоящей мере и настоящем свете. Вот опасности душевного анализа, и в рассказах гр. Толстого, которые мы высоко ценим, есть многие признаки этих свойств анализа. Талант его очевиден, и мы надеемся, что он освободится от этой мелочности, и можем сказать, микроскопичности взгляда, и талант его окрепнет и созреет.

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/uploads/posts/books/130171/130171.jpg)























