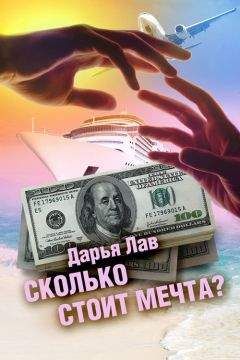Юрий Барбой - К теории театра

Помощь проекту
К теории театра читать книгу онлайн
Здесь один из самых ярких эпизодов в истории театрального предмета. По-сократовски «припомнившая» древнегреческий драматизм ролевая сфера жизни подверглась тому, что в науке называется дихотомией: она перестала быть однородной и стала «делиться», ветвиться. Причем обе ее ветви, сохраняя общие свойства основания, будто договорились между собою о своего рода предметных доминантах: одна будет настаивать на драматизме театральности, другая — на театральности драматизма. Продлится ли этот процесс, неизвестно. Но ясно, что он возможен.
Теперь остается выяснить, как быть с другим кандидатом в театральность, с театральностью евреиновского толка, тем инстинктом преображения человека в иное существо, наличие которого мы прежде допустили, или с более надежно зафиксированным наукой инстинктом подражания. Если считать театр искусством (в чем сам Н.Н. Евреинов готов был усомниться), если исходить из аристотелевой идеи мимезиса, упомянутый инстинкт не только не помеха, он подмога. И в таком ключе вопрос решается сравнительно просто. Постольку, поскольку у человека такие инстинкты есть, они тот самый дар природы, который в жизни, а потом в театре позволил человеку играть свои роли — социальные, а вслед художественные. Тут не предмет театрального подражания, а одно из средств, природная способность, с помощью которой театр оказывается в состоянии взять свой ролевой предмет, освоить его и воспользоваться им в художественных целях. Инстинкт преображения или инстинкт подражания для актера — не менее, но и не более, чем слух для музыканта.
Так мы, должно быть, определили для себя фундамент, на котором можно строить. Если мы готовы думать, что театр имеет в своем жизненном тылу нечто только ему открывающее свой тайный смысл, если мы соглашаемся с тем, что только открывая этот смысл, театр становится самостоятельным искусством, мы далее не вправе не «оглядываться» на предмет театрального искусства, как бы далеко от него не пришлось уходить.
Искусство театра можно и должно рассматривать по-разному. У него особый генезис и своя история; его произведение состоит из частей, связанных между собою так, а не иначе; его содержание так, а не иначе оформлено и выговорено. Но это значит, что театральный генезис привел к созданию такого инструмента, которым человечество сумело воспользоваться, когда понадобилось подражать ролевым драмам; что театральная история есть история всестороннего и беспредельно разнообразного освоения этого самого, для театра неисчерпаемого, хитрыми зигзагами развивающегося и даже «делимого» предмета; что в театре есть элементы, части, которые постоянно ищут себе прообразов в предмете и связаны между собою так, как предуказывает предмет; что театральное содержание — это, в конце концов, художественные вариации на тему, заданную предметом; что театральные формы и театральный язык, как далеко от жизни их ни уводи, — если они театральные, не могут быть поняты вне магнитного поля своего предмета. Все виды и типы театра — не что иное как специализированные подражания тем или иным сторонам или частям предмета. Предмет нельзя переоценить. Как бы вольно и своеобразно театр ни осваивал жизнь, именно ею он питается, как бы далеко от ее форм ни уводила художника его фантазия — и фантазия не беспредметна: фантазирует артист сцены и режиссер тоже, в конечном итоге, на темы театрального предмета.
Иное дело, что искусство столь же «похоже на жизнь», сколь и не похоже на нее. И театр так же кровно связан со своим предметом, как отделен от него. Но чем глубже мы внедряемся в художественную материю, тем важней помнить об ее драматически-ролевом нехудожественном прообразе. Оттуда на театр дышат его почва и судьба.
__________________
1 Костелянец Б. Драма и действие. Л., 1976. С. 4.
2 Там же. С. 6.
3 Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К.С. Собр. Соч. В 8 тт. Т. 6. М.,1959. С. 236.
4 Там же. С. 233.
5 Игнатов И.Н. Театр и зрители. М., 1916. Ч.1. С. 12–13.
6 См.: Евреинов Н. Н. Театр как таковой. М., 1923.
7 См. об этом: Калмановский Евгений. Природа театра и идея театральности // ПТЖ. 1993. № 1; Барбой Юрий. Заклятие. // ПТЖ. 1993. № 4.
8 См., напр.: Философский энциклопедический словарь.
9 См., напр.: Кон И.С. В поисках себя. М., 1985.
10 Кантор А.М. Театральность и живописность в исторической живописи Х1Х века // Театральное пространство. М., 1979. С. 408
11 Там же.
12 Калязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002. С. 199.
13 Кантор А.М. Ук. соч. С. 409
14 Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978. С. 14.
15 См.: Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
2. Театральный генезис
Исторически воспитанное сознание естественным образом исходит из того, что театра когда-то не было, а потом он стал и теперь продолжает быть. Известно, что театр есть не во всех культурах, не у всех народов, но там, где он родился, он продолжает развиваться, какими бы трудными ни были его пути. Это касается не только Западного, но и Восточного театра, многие формы которого из Европы представляются застывшими, зафиксированными на веки вечные. Очевидно, это аберрация: развивается всякий театр, вопрос лишь в исторической скорости перемен и еще больше в том, где именно, в каких областях такие перемены могут быть уловлены.
Но при всех различиях между Западным и Восточным театром, историк безусловно прав, когда рассматривает театр как процесс, как совокупность перемен — радикальных и ничтожных, катастрофических и протекающих незаметно для глаза. Точно так же неоспоримо логично, если историк театра начинает свое повествование с того, что считает предысторией, с тех эпох, когда театра не было, а были лишь отдаленные или близкие его предвестья. Уважающий себя исследователь западноевропейского театра не вправе миновать фаллические действа или элевсинскую мистерию, так же как ни один историк русского театра не обойдет вниманием те культурные явления, которые считает истоками русской сцены.
Но, с другой стороны, никакой историк не может выйти за пределы названной выше посылки: театра не было, потом он стал и продолжает уже быть театром. Хотя, как известно, в гуманитарных науках невозможна дедукция и нет постулатов, мысль, согласно которой театр, однажды став, продолжает уже быть театром, в историко-театральной науке не требует доказательств. В самом деле, без того, чтобы принять это положение за исходное, историк театра не может чувствовать себя историком театра.
Но как раз с теоретической точки зрения такое допущение не только должно обсуждаться — его следует поставить под сомнение: продолжает быть, но чем? По крайней мере, не менее логична, чем историко-театральная, иная гипотеза: да, случилось так, что театр родился, но после этого прекрасного момента он не столько стал, сколько становится (или становился, но нынче перестал) самим собой.
Если принять такую гипотезу, вопрос о фактическом происхождении театра, столь насущный для историка, на время отступает перед другим вопросом — о генезисе театра, понятом узко и жестко определенно: не когда, а откуда; не как, а от каких родителей?
Историки учат нас, что театральные начала надо искать в древнейших явлениях, именуемых обрядами. Еще не доспорили о том, единственным ли или не единственным источником искусства следует считать языческий обряд, но нам, по счастью, не обязательно дожидаться результатов этого интересного спора. Если обратить внимание на то, что такой обряд всегда есть ритуальное действо, спорить, быть может, стоит о другом: что следует считать решающим — ритуальность или действенность? Ритуальность, резко выявленная знаковость явно видны в театрах Востока, и не зря к ним обращала глаза театральная мысль (и театральная мода) второй половины ХХ века, когда искала для сцены свежее горючее. Но и в театре европейского типа, принципиально более текучем, с относительно незакрепленными формами, ритуальность тоже, конечно, есть, и ее нельзя вынести за скобки. Однако из этого не следует, что именно ритуальность и есть то зерно, из которого вырос театр. Во всяком случае, действенность давних обрядов представляется свойством куда более фундаментальным и универсальным, о чем косвенно свидетельствует хотя бы ее почти полная независимость, олимпийское равнодушие к особенностям как историческим, так и региональным. Действенность, по-видимому, есть атрибут и театра и пратеатра.
Есть ряд культурных форм, которые не просто по традиции считаются пратеатральными, рассматриваются как не просто предшествующие театру, но порождающие его. Среди них в первую очередь называют древние ритуальные охотничьи действа. В самом деле, акт того самого преображения человека в другое существо, на которое ссылался Н.Н. Евреинов, в таких действах налицо. Охотник надевает на себя маску, сделанную из головы мамонта — и превращается в мамонта. Не «условно», а совершенно буквально перевоплощается в него. Сверхвыразительные маски плюс идеальное перевоплощение — воистину действо, не только по внешности, но, кажется, по самой сути «напоминающее» театр, хочется без рассуждений объявить первым и главным до-театром.