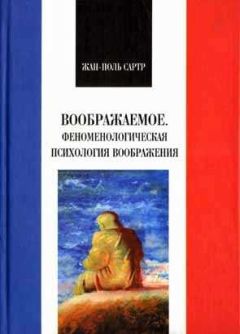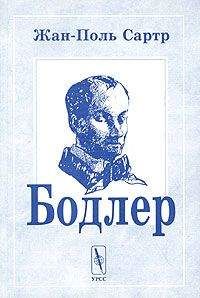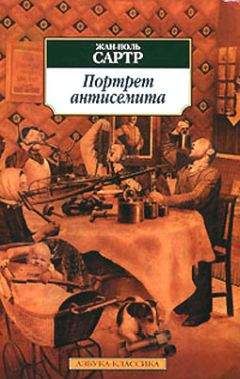Жан-Поль Сартр - Что такое литература?
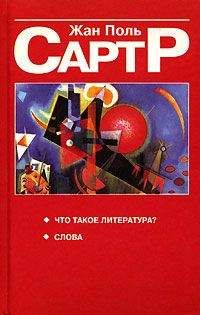
Помощь проекту
Что такое литература? читать книгу онлайн
Произведение предстает как задача, которую необходимо решить, и этим сразу возвышается до уровня ультимативного императива. В вашей власти оставить эту книгу лежать на столе. Но если вы ее открываете, то берете на себя ответственность за это. Ибо свобода ощущается не в свободном субъективном действии, а в творческом акте, вызванном императивом. Это трансцендентный и в то же время добровольно воспринятый императив. Именно такая абсолютная цель, взятая на себя самой свободой, и есть то, что мы называем ценностью. Произведение искусства можно считать ценностью, потому что оно есть императив.
Когда я в своем произведении призываю читателя закончить начатое мною дело, то, без сомнения, я рассматриваю это как чистую свободу, творческую силу, активную позицию; никогда я не могу обращаться к его пассивности, то есть стараться повлиять на него, вызвать у него сразу такие эмоции, как страх, желание или гнев. Конечно, есть авторы, стремящиеся именно к этому, озабоченные стремлением вызвать у читателя такие эмоции. Это объясняется тем, что подобные эмоции предсказуемы, управляемы, и в распоряжении писателя есть испытанные средства для того, чтобы их вызвать. Именно это часто ставят писателям в вину. Так было в античности с Еврипидом, который выводил на сцену детей.
В страсти свобода отделена: утонув в деталях, она забывает о своей главной задаче – создание абсолютной цели. Теперь уже книга не более чем средство вызвать ненависть или желание. Задача писателя не том, чтобы потрясти читателя, тогда он окажется в противоречии с самим собой. Если он намерен требовать, ему достаточно лишь предложить читателю задачу для решения. Вот мы и пришли к чисто демонстративному характеру произведения искусства как к его важнейшему признаку. Некоторая эстетическая дистанция просто необходима для читателя. Это то, что Готье так глупо перепутал с "искусством для искусства", а парнасцы – с отстраненностью художника. Мы говорим только о предусмотрительности. Жене более точно назвал это учтивостью автора по отношению к читателю. Но это не следует думать, что писатель обращается к какой-то абстрактной, концептуальной свободе. Эстетический объект создается заново через чувства. Если он трогателен, то мы видим его лишь сквозь слезы, если смешон, то осознается через смех. Оба эти чувства особого рода – основой их является свобода, они – восприняты. Я все равно до конца не верю в рассказ, который добровольно решил считать правдивым. Это Страсти в христианском понимании слова. Здесь свобода, сама поставившая себя в пассивное положение, чтобы через эту жертву получить определенный трансцендентный результат. Читатель становится доверчивым, он окунается в доверчивость, а она – хоть и сопровождается все время сознанием, что он свободен, – в конце концов обволакивает его, как сон. Порой, автора заставляют выбирать: "Или в вашу историю верят, а это нежелательно, или не верят, тогда это смешно".
Но такой подход совершенно неверен, ибо эстетическое сознание включает в себя веру – по общепринятому соглашению, по данной клятве. Вера, которая основывается на верности самому себе и автору, на постоянно повторяющемся моем выборе. Я могу проснуться в любой миг и знаю это, но я этого не хочу. Чтение – это добровольный сон. Как видно, чувства, заложенные в самой глубине этой воображаемой веры, просто модуляции моей свободы. Они не впитывают и не закрывают ее, а предстают перед ней лишь в том виде, какой она сама выбирает. Я уже говорил, Раскольников остался бы только тенью без той смеси сочувствия и отвращения, которое я к нему испытываю. Именно это заставляет его жить. Но из-за противоречивости воображаемых объектов, не его поступки вызывают во мне эти чувства, а мое возмущение, мое уважение делают его поступки прочными и жизненными.
Получается, что объект никогда не преобладает над душевной жизнью читателя. Но и никакая другая внешняя реальность не может вызывать их. Их постоянным источником является свобода, то есть они вызываются великодушием. Под великодушием я понимаю такое душевное движение, которое имеет своим началом и целью свободу. Получается, что чтение есть проявление великодушия. Писатель же требует от читателя не проявления абстрактной свободы, а полной отдачи его личности. Ему нужны все ее страсти, предубеждения, симпатии, сексуальный темперамент, ее шкала ценностей. Личность дарится великодушно, она вся проникнута свободой, которая пронизывает ее насквозь и преобразует самые темные массы ее чувств. Так же, как активность становится пассивностью, чтобы успешнее создать объект, так и пассивность превращается в действие. Читающий человек оказывается на самой большой высоте. Именно поэтому даже самые бесчувственные люди могут проливать слезы над рассказами о придуманных несчастьях. Просто они на минуту стали такими, какими были бы, если бы всегда не скрывали от себя свою свободу.
Мы видим, что автор пишет, чтобы обратиться к свободе читателей. Без нее не сможет существовать его произведение. Но этого ему мало, он требует, чтобы читатели вернули ему то доверие, которое он им оказал. Читатель должен признать его творческую свободу и со своей стороны обратиться к ней. Здесь проявляется еще один диалектический парадокс чтения: чем больше мы свободны, тем больше признаем свободу другого. Чем больше он ждет от нас, тем больше мы ждем от него.
Когда меня радует пейзаж, я прекрасно осознаю, что его создал не я. Но мне известно и то, что отношения, возникшие под моим взглядом между деревьями, листвой, землей, травой, без меня вообще не существовали бы. Я не могу понять причин целеустремленности, которую я вижу в сочетании цветов, гармонии форм и движений, вызванных ветром. Но, она есть, она здесь, перед моими глазами. Наконец, в моей власти сделать так, чтобы сущее было, только если сущее уже есть, но если я верю в.Бога, я не могу допустить никакого перехода, кроме словесного, между универсальным промыслом Божьим и конкретным видом, на который я смотрю. Считать, что он сотворил пейзаж для того, чтобы он мне понравился, или что создал меня, для того, чтобы я радовался пейзажу нельзя. Это означало бы принять вопрос за ответ. Осознанно ли сочетается эта синева с зеленым? Откуда мне это знать? Идея универсального не может гарантировать никакого личного желания, особенно в нашем случае. Зеленый цвет травы объясняется биологическими законами, конкретными факторами, географическими условиями, а синева воды объясняется глубиной реки, структурой почвы, быстротой течения. Сознательно выбрать эти краски можно было бы только задним числом. Здесь встреча двух причинных рядов, что, на первый взгляд, кажется случайностью. Целенаправленность остается проблематичной даже в лучшем случае. Все предложенные здесь отношения – лишь гипотезы. Никакая цель не воспринимается нами как императив, потому что ни одна цель не раскрывается нам, как цель, поставленная себе ее создателем.
Красота природы никогда прямо не обращается к нашей свободе. Точнее, в совокупности листвы, форм и движений есть кажущийся порядок, а значит, иллюзия призыва, который, будто, требует этой свободы, но тут же притихает под нашим взглядом. Стоит нам взглянуть на этот порядок, как призыв исчезает, мы можем по своему желанию соединить этот цвет с другим или третьим, установить связь между деревом и водой, деревом и небом или деревом, небом и водой. Моя свобода превращается в мой каприз: по мере установления новых связей, я ухожу все дальше от мнимой объективности, которая взывает ко мне: я мечтаю о некоторых мотивах, неясно навеянных вещами. Реальность природы уже только предлог для мечты.
Иногда я до глубины души огорчен тем, что этот на мгновение осознанный порядок, мне никем не был предложен, а значит, не может претендовать на истину. Тогда я фиксирую свою фантазию, переношу ее на холст, на страницы книги. В этот момент я превращаюсь в посредующее звено между бесцельной целью природы, и взглядами других людей. Я вручаю им ее, благодаря такой передаче, она становится человеческой.
Здесь искусство можно считать актом приношения дара, и один этот дар уже обеспечивает метаморфозу. Происходит нечто похожее на передачу титула и властных полномочий при матронимате, когда мать сама не является носителем имени, но остается обязательной посредницей между дядей и племянником. Если я на лету схватил иллюзию, если вручаю ее другим, освободив и передумав заново, они могут принять дар с полным доверием – иллюзия сделалась интенциональной. Автор, конечно, остается на границе субъективного и объективного и не в состоянии оценить объективный порядок дара.
Наоборот, читатель обретает все большую безопасность. Как бы далеко он ни забрался, автор проделал еще больший путь дальше. Как бы ни соотнес он между собой элементы книг – главы, страницы, слова – у него есть гарантия, что они были написаны и расположены автором определенным образом. Он даже может внушить себе, подобно Декарту, будто есть скрытый порядок в расположении не связанных между собой элементов. Творец опередил его и здесь, ведь самый прекрасный беспорядок – это художественные эффекты, которые все-таки представляют собой некую упорядоченность. Процесс чтения содержит индукцию, интерполяцию, экстраполяцию. Основание всех этих операций заложено в авторской воле, подобно тому, как научная индукция некогда считалась заложенной в воле божественной.