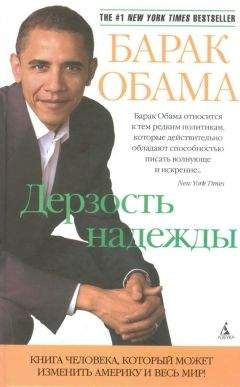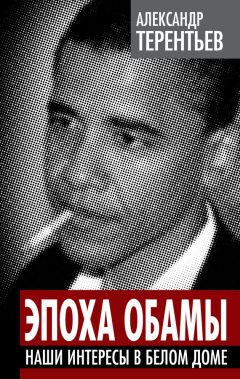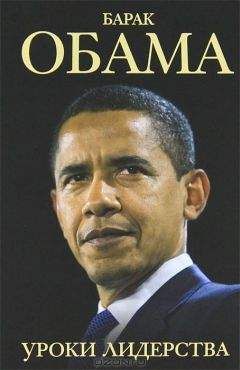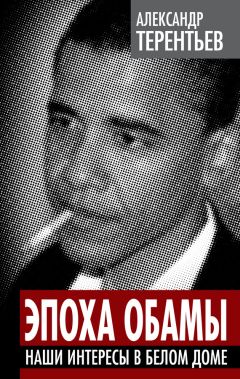Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Что читать»
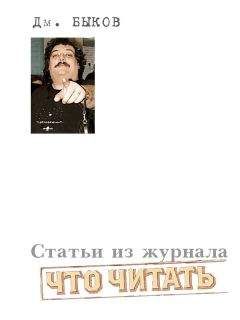
Помощь проекту
Статьи из журнала «Что читать» читать книгу онлайн
Если вы еще не читали голдинговского «Повелителя мух» — а такое, я убедился, бывает, — это мрачное, но практически идеальное пляжное чтение: экзотический остров, замкнутое пространство, дети, страсти, древние зовы… Все «Последние герои» и прочие реалити-шоу выросли из этой страшноватой истории; в свое время она показалась устроителям артековского кинофестиваля настолько мрачной, что экранизацию работы Питера Брука решили не показывать даже вне конкурса, и смотрел я ее на единственном ночном просмотре для вожатых: очень неприятное кино, и книга неприятная, но надо. Только у моря и читать. Если вас интересуют более жизнеутверждающие истории — нельзя не посоветовать колониальные рассказы Моэма, и в первую очередь «Дождь», «Макинтош», «Рыжий»; нет большего кайфа, чем в тысячный раз перечитывать у моря «Луну и грош», — можно потягивать при этом что-нибудь со льдом, а можно только покуривать трубку. Крым, да хоть бы и Геленджик — идеальное место, чтобы воображать себя странствующим колонизатором: там и беломорину легко представить сигарой. Моэм и сам любил писать на пляже, в собственной вилле на Лазурном Берегу (губа не дура, не зря шпионил на Ее Величество): в прозе его есть туристическая легкость, очарование чужеродности, неучастия — он с некоторой брезгливостью, а все-таки и с завистью отстраняет кипучую и страстную туземную жизнь, наслаждаясь тем, что ее жестокие правила на него не распространяются. Вот почему его так любят туристы всего мира — сюжет есть, о финале не догадаешься, но всего дороже эта прохладная отстраненность отутюженного, скромно-богатого гостя. Любителям более пряной экзотики и более бурной динамики не могу не порекомендовать раннего Джека Лондона — упомянутую «Алоха Оэ», «Дом Мапуи», прочие колониальные рассказы плюс обязательный «Морской волк». Дети нашего поколения читали это все уже к двенадцати годам, но многие нынешние взрослые понятия не имеют, что Лондон написал хоть что-то помимо «Мартина Идена» или в лучшем случае золотоискательских новелл.
3. Роскошь
Как хотите, а читать про страдания миллионеров на сверкающих пляжах двадцатых годов — одно из высших наслаждений, доступных смертному. Роман Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» — по моему глубокому убеждению, лучшая книга эпохи джаза, лучше его же «Гетсби». Помимо явной автобиографичности привлекательно так и не изжитое упоение человека из среднего класса, которого вдруг занесло в мир настоящих отелей, наилучших женщин и наизолотейшей молодежи. Ялтинский опыт освоения Фицджеральда оказался оптимален: в Москве он читается много хуже. Конечно, и Фицджеральд сегодня — на любителя: слишком психологичен, иногда многословен — ладно, перечитайте (или откройте для себя) «Вечер в Византии» Ирвина Шоу. Действие — в Каннах, герои — богатые и творческие, секса — завались (как вариант, рекомендую его же книгу «Ночной портье», никакого отношения не имеющую к страшному фильму Лилиан Кавани).
Хорош для пляжа и Хемингуэй — прежде всего, конечно, «Райский сад», во вторую очередь «Острова в океане» (оба опубликованы посмертно, ибо автор был ими недоволен, а зря). Но и «Фиесту» лучше всего читать на отдыхе, странствуя по барам и представляя себя потерянным поколением: а что, бывают непотерянные? Хорош и «Праздник, который всегда с тобой» — с этим ощущением творческой, напряженной праздности: нельзя ведь долго лежать на песке ленивым блином, надо, чтобы голова, освободившись от будничной рутины, лихорадочно варила! А Хемингуэй ее к этому стимулирует, заразительно и азартно описывая счастье писательского труда, когда пишется.
Любителям серьезного чтения я бы порекомендовал «Александрийский квартет» Лоренса Даррелла — его, по-моему, нельзя читать нигде, кроме как в отпуске. Сам я не поклонник этой длинной и довольно однообразной книги, но некоторые находят в ней сплав Голсуорси с Прустом. Мне куда милей Пол Боулз (не только «Под покровом небес», но и «Высоко над миром»: превосходное пляжное чтение, серьезные романы на отельном и экзотическом материале). Если вы заметили, русских писателей — кроме Грина и Станюковича — я почти не упоминаю: дело в том, что русская литература редко умеет сочетать развлекательность (экзотичность, авантюрность) с серьезным и неоднозначным посылом. Тут уж — либо полный серьез, либо ликующая легковесность. А для пляжа нужен тончайший баланс того и другого — как в хорошей американской фантастике (наша подвержена той же русской болезни, а потому рекомендовать могу лишь Лукьяненко, Успенского, Лазарчука, Трускиновскую и Лукина).
Где же современные авторы, спросите вы? Увы, современные авторы в большинстве своем исхалтурились и пишут настолько скучно, что на пляже вы с ними заснете — а спать на солнце почти наверняка означает обгореть. Поверьте мне на слово: хорошая пляжная литература закончилась тогда, когда мир перестал быть непознаваемым, манящим, полным чудес. Все, что хорошо читать на морском берегу, написано в краткий период — от эпохи великих географических открытий до века мировых войн. А то, что пишут сейчас, можно читать только в общественном транспорте — когда смотреть по сторонам еще грустней, чем в книгу.
№ 7–8, июль-август 2009 года
На судне
Интерес к жанру разоблачительной биографии — вещь закономерная и, так сказать, обратно-предсказуемая, то есть задним числом она представляется безукоризненно логичной, да только знал бы прикуп — жил бы в Сочи. Впрочем, и зная этот прикуп, большинство исследователей не пожелали бы гнаться за новым трендом, но появление его оправданно. Разоблачительная биография сродни антиутопии и появляется в такие же времена — в эпохи великих разочарований и надломов.
Когда-то Ирина Роднянская заметила, что антиутопия — «отказ от исторического усилия»; Вячеслав Рыбаков тогда же прямо говорил о трусости общества, не смеющего сформулировать положительный идеал. Антиутопии пишут не только тогда, когда хотят предупредить, но и тогда, когда не видят будущего, не догадываются о нем. Утопия ставит цель — антиутопия тут как тут и доказывает, что все равно ничего не выйдет. (Действительность, кстати, всегда сложней и дуальней: в начале века было полно утопий, потом — антиутопий, сбылось то и другое в примерно равной пропорции: скажем, в СССР было построено невыносимое общество, которое шагнуло в космос и создало прослойку полубогов, под которой подразумевается, конечно, не политбюро, а лучшая часть интеллигенции).
Положительный герой биографии зовет к действию, ставит задачу, внушает надежду — но на смену ему уже торопится отрицательный, говоря: ничего не вышло, все умерли, покойник при жизни был отъявленная свинья. Герой переломной эпохи ищет утешения в том, что другим тоже было трудно, — и ничего, свершали великое. Герой эпохи гнилостной утешается тем, что другие тоже были не без греха, а ежели честно сказать, — извращенцы и пьяницы. Звезды созидательных или по крайней мере стабильных времен — образцы, примеры для подражания, «под них» одеваются и разговаривают; звезды эпохи распада — герои светской хроники, скандалисты, образцы лицемерия и промискуитета. Пушкин был прав — неправ он, кажется, не бывал вовсе, — говоря о стремлении толпы видеть Байрона не «на троне славы» или «в мучениях великой души», а на судне. «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении». Скажем, однако, в защиту толпы, что так бывает не всегда: это ведь писано в ноябре 1825 года, во времена, прямо скажем, не лучшие для России: реформы опять закончились стагнацией, Александру I оставалось править меньше месяца, после чего он то ли ушел, то ли умер в Таганроге; декабристский заговор ничего не изменил, да изменить и не мог. Попробовал бы кто в 1810 или тем более в 1812 году занимать публику грязными подробностями — немедля заслужил бы всеобщее презрение; на подъеме толпа как раз имеет потребность в героическом. А когда мы «малы и мерзки» — тогда, конечно, подавай нам того, кто «мал, как мы, мерзок, как мы».
Разоблачительную биографию следует, впрочем, отличать от полемической (см. интервью М.В.Розановой на соседней странице). Когда у автора нет другого способа напомнить о величии героя, кроме как от противного, когда герой до неузнаваемости засахарен и до тошноты засироплен — счищать патину приходится весьма жесткой щеткой, но это, в конце концов, на благо персонажу. Скажем, когда в России только что не молились на В.В.Набокова, неумело и пошло подражая ему и обожествляя аполитичность, надмирность, снобизм etc (всего этого у Набокова нет или очень мало, но архивным юношам нравилось именно это), — Алексей Зверев опубликовал в ЖЗЛ свою весьма полемичную, а то и прямо разоблачительную книгу о Набокове, но Набоков в результате засиял только ярче, причем попутно был развеян и миф о высокомерном его безразличии к политике, литературным полемикам, советской реальности и пр. Развенчание культов — дело полезное, когда задумывается все-таки из любви к предмету культа, а не из весьма низменного желания низвести высокое в грязь; спутать это не так уж трудно, но понимающий читатель разберется.