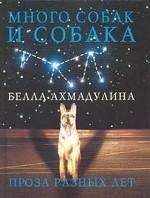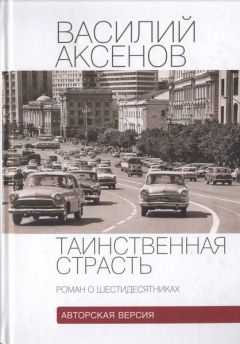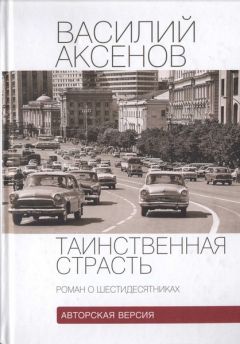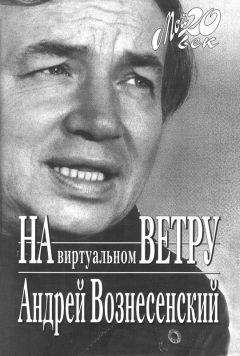Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра

Помощь проекту
Ядро ореха. Распад ядра читать книгу онлайн
Попробую все-таки… В первой строке (я прошу читателя не задерживаться на грамматической неловкости второй строки: это «мелочи»), так вот: в первой Вознесенский по обыкновению братается с классиками. Вот я и использую его подсказку, не для того, понятно, чтобы побивать Вознесенского Маяковским — последний сам любил драться, да еще куда как откровеннее, — но вот просто стих на стих: «Я хочу быть понят моею страной. А не буду понят, — что ж? По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь…» — насколько это благороднее и выше угрозы «обнаружить клыки»…
Но все ж и здесь придется примириться со странной противоречивостью этики Вознесенского: с одной стороны — «не трожьте музыку руками»… с другой стороны — «чтоб вам не оторвало рук», с одной стороны — беззащитность жертвы, с другой — немедленная агрессия. Видно, и без этой антиномии. Вознесенский не живет как поэт: фантастическая противоречивость его этики (или, как любят говорить поклонники таких стихов — смелое сближение полюсов) так же коренится в его общем взгляде на мир, как и эстетическая головоломность.
Каков же мир его поэзии? Где основа противоречий? Где смысл драмы, урок ее?
«Тщета! Тыща лет больше, тыща лет меньше — но далее ни черта!» Его мир — это война: война красок, импульсов, непосредственных эмоций. Сверху— «ни черта», купола нет, завершения нет, смысла нет — черная бездна. Пытаясь согреть себя в этом знобящем мраке, Вознесенский делает ставку на первоначальные страсти, он из них выкраивает себе евангелие; в этом странном Собакалипсисе «пахнет псиной и Новым Заветом», богоматерь, как мы помним, — всего лишь еще одна баба, причем не лучшая: герой, любующийся бунтующей американской студенткой, все время невольно скользит взглядом по ее прелестным клешам… История — непрерывный круговой бунт, святой в своем природном физиологизме. Цель? Смысл? Нету. «Чего-то нет, чего-то нет».
Возможен ли моральный выбор в этой ситуации? Личность — возможна ли? У Слуцкого и военных поэтов проблема выбора вообще не стоит — там личность изначально ввязана в структуру целого, в ход Истории — «выбиравший не выбирал». Здесь, у Вознесенского, проблема выбора стоит очень остро: или — или.
Или — стать жертвой Истории, ее невольником. «Мы песчинки, мы печальны, как песчинки в этих дьявольских часах». Или — разгул насилия, толпы «культурной революции», «моча на жемчужинах луврских фаюмов», самосуд насильников, волокущих Стравинского «по воющим улицам».
Человек у Вознесенского действительно поставлен перед выбором. Самые лучшие, самые пронзительные строки его — от этого ощущения: надо решиться, надо решиться. Жутким ощущением свободы пропитаны лучшие его стихи. Звенящим ощущением самопожертвования:
Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жандармы у крыльца на вороных.
Только вздрагивал, как белая кувшиночка,
гимназический стоячий воротник.
Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Дурочка, разуй глаза.
«Я — готова, — отвечаешь, — это — главное».
А когда через столетие пройду,
будто шейки гимназисток обезглавленных,
вздрогнут белые кувшинки на пруду.
Сильно, страшно, неотвязно.
Вознесенский силен в момент выбора, в ощущении возможности выбора, в миг свободы, взвешивающей возможности. В этот миг взаимопросвечивают бездны, скользят силуэты, и кажется: вот-вот проступят на челе Истории — логика и оправдание, смысл и искупление… Но нет. «Чего-то нет, чего-то нет…» Свобода пуста, смертельна. Или — голову на плаху, или — топор в руки. Или — «я — готова, это — главное», — а что выйдет из этого — неважно. Или — пусть выйдут из берегов льды и, как восторженно пророчит Вознесенский в финале поэмы «Лед-69», — «не божий суд, а самосуд, все, что надышано, накоплено, вселенским двинется потопом… Ничьи молитвы не спасут». Видите: когда Кучумья толпа на тебя идет — завыть хочется. Но когда ты сам избираешь эту карающую самосудом толпу — то ничего. «Обнаруживаешь клыки» — и всё.
Должен сказать, что сколь ни пугает меня Андрей Вознесенский этими картинами, — мне не страшно. И знаете, почему? Потому что он сам в это не очень верит, по-моему. Он — поэт мгновения выбора, завороженный возможностью выбора, он поэт номинальной свободы. Заполнить эту свою свободу ему нечем. Она гибельна, и чтобы сладить с нею, при этом от нее не отказавшись, нужна и впрямь головоломная эстетика. Или — игра. «Я — последний поэт цивилизации. Не нашей, римской, а цивилизации вообще. В эпоху духовного кризиса и цифиризации культура — позорнейшая из вещей». Слышали? Да за эти слова… если, конечно, им поверить… за эти слова… «3а эти слова меня современники удавят». Справедливо. Но не думайте, что поэт в это верит. Он будет из петли хихикать. Он, оказывается, просто надул всех. «Они примутся доказывать, что слова мои вздорные. Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг… И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули. Вот это будет тот еще па-мят-ник!»
Ох… не вздергивать тебя надо, а… но ладно. Изберу парламентский стиль. И даже метафорический. Андрей Вознесенский — не «последний поэт цивилизации». Он — первый поэт среди поколения мечтательных мальчиков. Он — мастер-ломастер. Знаете, есть такие мальчики, ломающие игрушки, чтобы посмотреть, как там устроено. На заре «туманной юности» это очень хорошо: пытливый ум, озорство и дерзость мысли. На заре туманной юности можно даже перепутать Ван-Гога с Гогеном — и раньше, как через десять лет, этого не заметят. Но когда в зрелые времена, как писал критик Вл. Гусев, при свете дня, дети продолжают ломать игрушки — это уж, пожалуй, и тревожно. Тут не Антверпен с Гаагой, тут бога с чертом перепутать можно, палача с жертвой, человека со зверем.
Чувствует ли эту тревогу сам Андрей Вознесенский?
Чувствует. Оттого он и лих.
ПРИМЕЧАНИЕ. Набрано и рассыпано в журнале «Москва» в 1973 году, напечатано в том же году в журнале «Дон», № 10.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА
Начинал Владимир Максимов вроде бы как исследователь «молодой души», как писатель «становящегося характера». Но его проза была совершенно лишена того чисто умственного красования, каким отличались начинавшие вместе с Максимовым исследователи «молодой души», — максимовская проза и теперь не щеголяет внешним умничаньем, она вскормлена на тяжелых, земных сюжетах, на таежном опыте, на хлебе и воде.
И к распространенной теперь «прозе быта» В. Максимова не отнесешь: он чужд спокойного и методического интереса к каждодневности, у него не найдешь ни обилия подробностей, ни чисто социологического мышления, которые отличают эту «прозу быта». Максимов слишком нестроен, прерывист, его сюжеты исключительны, его характеры несут романтическую возбужденность поиска, для него подробности — не самоцель, а символика, и нужны они не для «картин жизни», а для «исканий духа».
Наконец, пытались отнести В. Максимова к «лирической прозе». Надо, однако, представить себе стилистику современной «лирической прозы» с ее туманами, с размытостью контуров, с ее мечтательными ритмами и сказовой интонацией, чтобы почувствовать всю странность того, что среди «лириков» оказывается Максимов — этот жесткий, жестокий, почти исступленный исследователь мятущейся души, совершенно чуждый элегии, сводящий своих героев на очные ставки в почти театральных ситуациях, — вот уж где никакого лирического тумана!
И все-таки… почитайте критические статьи о В. Максимове. Эпитет «лирический» всплывает в этих статьях — невзначай, вдруг, с оговорками, но всплывает непременно. Это понятие то соединяется с каким-то чисто «максимовским» определением (А. Бочаров писал о «лирической напряженности» прозы Максимова), то описывается косвенно (И. Гринберг говорил о максимовской способности «решительно группировать жизненные факты» — эта «решительностью явно независима от логики внешних фактов она имеет какой-то иной источник). Я хочу сослаться также на точное наблюдение С. Ереминой (ее статья о В. Максимове в «Московском комсомольце» кажется мне одной из лучших): заметили ли вы во всех повестях Максимова настойчиво повторяющийся лейтмотив: «Я с трудом расклеиваю веки…» — мотив пробуждения, тот момент, когда сон переходит в явь, когда человек на какое-то мгновенье изумляется яви…
Можно, конечно, исследовать в его повестях явь: эмпирический опыт, картины жизни. Можно сказать, что в повести «Мы обживаем землю» описаны трудности таежной жизни бригады плотников, которые проходят по необжитой земле впереди геологов, готовя для тех жилье. Можно перечитать «Дорогу» — как повесть об освоении Севера, о том, как сквозь тундровые хляби люди тянут стальную нитку дороги. Можно увидеть в повести «Жив человек» историю раскаяния уголовника. И так далее. Если видеть в Максимове только тематический план, то, пожалуй, его проза покажется чересчур специальной: «перековка уголовников» — и тут Максимов неоригинален.