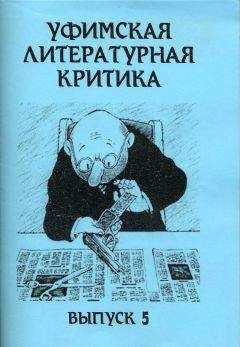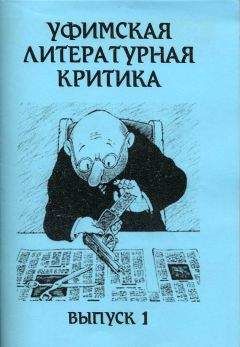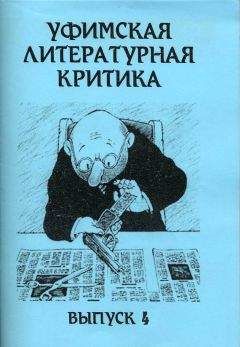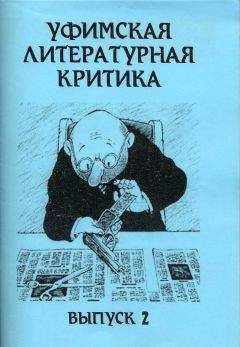Эдуард Байков - Уфимская литературная критика. Выпуск 3
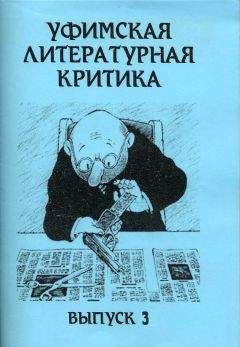
Помощь проекту
Уфимская литературная критика. Выпуск 3 читать книгу онлайн
Ильгизар Дикат «Притчей старых гор Уральских…» уверенно доказывает, что эпос и фантазии на его тему – золотое дно для рассказчика. Впрочем, кто бы сомневался?
«Философский вопрос» Газиза Юсупова – скорее, набросок, ироничный репортаж с некого собрания, байка. Но почему-то не смешно.
Дамы демонстрируют многие замечательные качества женских рассказов: распирающую текст сентиментальность (Гульнур Буракаева – «Тюльпаны для Нюню»), полное погружение в бытовые подробности, общий высокоэмоциональный тон диалогов (Лидия Сычева – «Яблоко от яблоньки», «Город на озере»), некоторые аспекты тяжелой женской доли («Фауст» Эллы Султановой, «Условность» Ирины Полянской, короткие рассказы Нины Горловой «Купринки»). Как ни хочется сопереживать героиням данных рассказов, это несколько затруднительно, ибо уже вскоре после прочтения непросто вспомнить, о чем же там шла речь, а без этого какое же сопереживание – никак не получается.
Таким образом, что же читатель имеет в сумме? Как минимум, три очень хороших рассказа плюс отличный очерк плюс несколько неплохих коротких рассказов. Если к этому добавить полученное ясное представление о том, что же такое чернуха и какими несомненными достоинствами могут обладать женские рассказы, то общий результат окажется очень неплохим.
Составителя данного «Литературного перекрестка» можно поздравить – теперь я понимаю, отчего на своей фотографии, иногда возникающей перед читателями, беллетрист и ответственный секретарь «Бельских просторов» Юрий Александрович Горюхин улыбается и довольно поправляет очки на носу – это удовлетворение от хорошо проделанной работы по составлению сбалансированного, разнопланового «Литературного перекрестка». Так держать, Юрий Александрович!
В прозу «Перекрестка» смело и талантливо вклиниваются стихи Ольги Чикиной и Виктории Скриган.
Викторию Скриган, впрочем, подают несколько странно. Подборка стихов называется «…для России рожать сыновей…». Звучит ободряюще. Перевернув страницу, обнаруживаешь все коварство редактора. Виктория Скриган заявляет: «Я боюсь для России рожать сыновей…». Вот те раз! Поскольку в стихотворении ни слова о страхе рожать дочерей, г-жа Скриган, вероятно, за увеличение женской доли населения. Очень радикальная позиция. На что отвечает народная мудрость: бабы каются, девки замуж собираются.
Ольгу же Чикину просто хочется процитировать:
«Барышни пили девичий токай, в небе играли драконы…».
Хорошо!
В рубрике «Литературоведение» обращает на себя внимание работа Игоря Фролова «Откровение Мандельштама (Эзотерика «Сталинской оды»)». Оригинальность и неистовость литературоведческого поиска ставят исследования г-на Фролова совершенно особняком. Взыскующему читателю посвящается.
Вся совокупность вышеупомянутых достоинств делает 12-й номер «Бельских просторов» за 2004 г., возможно, одним из лучших номеров этого журнала (всего их вышло до 2005 г. 73). Этот номер можно с удовольствием прочитать весь или почти весь. Далеко не каждому номеру «Бельских просторов» можно дать такую лестную характеристику.
Без всяких одолжений кому бы то ни было – рекомендую к прочтению!
А молодым – и не очень – авторам, пишущим рассказы, надо держать ориентир на г-на Горюхина. Не за горами следующий «Литературный перекресток»!
Александр Залесов
«Одноразовая оригинальность»
Чего не отнять, того не отнять: «Встречное движение» Юрия Горюхина – весьма оригинальная повесть.
В этой городской прозе при отсутствии сюжета большое количество персонажей встречается, общается, как бы трется друг о друга, и читатель ожидает, что вот-вот, на следующей странице или в следующей главе, наконец, и произойдет что-то более значительное, важное, менее суетливое и обыденное, но… этого не происходит. Персонажам повести не снятся сны, в их жизнь не вторгается мистика или фантасмагория, они не взыщут ни правды, ни истины, хотя роняют иногда интеллектуальные фразы и в одном месте – весьма недолго – говорят о Джойсе. Уместно вспомнить стилизацию Борхеса под апокрифическое евангелие: блаженны не взыскующие правды, ибо никто не прав, либо все правы.
Все восприятие повести – это умеренно-напряженное ожидание того, чего не будет, медленно нарастающее предвкушение неслучившегося; и оттого читать повесть интересно. Как в анекдоте: неважно, получится или нет, главное – сам процесс. Такое повествование можно тянуть бесконечно или оборвать на 19 главе – разницы нет: ничего другого, кроме этой ежедневной будничной возни и копошения с персонажами, не произойдет. Из всего разнообразия человеческой жизни, из всех мыслимых ее измерений автор выбрал повседневную суету и решительно отмел своей авторской волей все остальное. Намерение ли это автора, его находка или его слабость – разницы для читателя нет, ибо повесть вполне самодостаточна для восприятия, а вот автору писать еще повести в таком ключе – бесперспективно. Применительно к беллетристике, новый сюжет – это всегда новая история, даже если она повторяется, а вот новая суета действующих лиц без сюжета – это, скорее всего, история старая, даже если она неповторима, как сама наша жизнь.
Сказать о малоколоритных персонажах повести хлестко и коротко – «люди-функции» – будет неверно, ибо неплохие диалоги и большое количество хорошо прописанных деталей и подробностей не только оживляют общий фон, но и не дают персонажам превратиться в схемы или функции. Собственно, сама повествовательная ткань очень добротна. Отношение автора к своим персонажам иронично-теплое.
Вот пример: в главе первой «представительно одетый вор-домушник Тимур Осетров, которого близкие друзья звали просто Крючок», «решил отложить взлом квартиры сто двадцать четыре: во дворе облаяла визгливая серая шавка, на лестнице неожиданный гражданин с раздражением в быстрых шагах, ноющий зуб и неприятно полный мочевой пузырь – многовато перед нервной работой».
Алкоголь является несомненной структурной составляющей всего произведения – не настолько брутально, как у Хемингуэя или Ремарка, вовсе не сюжетообразующе, как в фильме «Ирония судьбы», – но очень преображающе и бодряще. Причем обращает на себя внимание конкретика формулировок: в главе пятой Ададуров предлагает Грогину «выпить сразу по полному стакану водки для более четких ощущений непростой реальности»; ранее, в главе третьей, Грогин «прочитал все нехитрые сообщения на этикетке, морщась одинаковому процентному соотношению сахара и спирта»; в последней, девятнадцатой главе диалог Андрея Пантелеевича и Ибатуллина Рината Газизовича завершается обменом фраз: «Может быть, все-таки водочки возьмем?». «Нет, только вино, с водки я нервничаю».
Описания женщин в повести куда бледнее. А сексу уделено очень немного общих и весьма скромных фраз.
Несомненным достоинством «Встречного движения» является конкретная топография: упоминаются, например, перекресток бульвара Славы и проспекта Октября, остановки «Строительная» и «Бульвар Славы», улица Сочинская, завод «Геофизприбор», Обские бани, ресторан «Россия», кинотеатр имени Гагарина, где можно посмотреть стереофильм. Это не просто городская, это – уфимская проза. Окружающий пейзаж, впрочем, никаких эмоций у персонажей не вызывает, но и негатива нет тоже – отношение спокойное, как весь темпоритм повести.
Резюмируя, таким образом, некоторые наблюдения над повестью «Встречное движение», можно отметить умение автора работать с деталями и диалогами; следует приветствовать уфимскую конкретику повести и особо выделить композиционные искания автора, который заменил сюжет большим количеством персонажей в их внешних проявлениях. Есть в этом некая (и даже явная) театральность: каждая глава содержит несколько сцен, которые разыгрывают несколько персонажей, иногда персонаж один; меняются эти сцены, как в калейдоскопе. На ум также приходит киномонтаж. По данной повести с осторожным оптимизмом можно предположить, что автор имеет предрасположение к написанию драматургических произведений, даже если еще никак не обнаружил себя как драматург и даже если не задумывался об этом.
Романист Акунин, который вводит в каждый свой роман множество персонажей, на вопрос, не путается ли он в своих героях, искренне отвечал с телеэкрана: еще как путаюсь! И привел несколько примеров такой путаницы. Но Акунина вдобавок весьма и весьма занимает сюжет, так что г-н Горюхин, не обремененный в данной повести сюжетопостроением, надеюсь, нигде не дал сбоя, ведь отследить взаимодействия такого количества персонажей – дело непростое.
Эта оригинальная черта повести – персонажи в их встречном движении вместо сюжета – оборачивается для автора явной необходимостью менять в дальнейшем своем творчестве манеру изложения как полностью исчерпанную одной повестью. Вот и парадокс: оригинальность повести оборачивается бесперспективностью подобных продолжений в этом жанре. Одноразовая оригинальность. Вполне в духе времени.