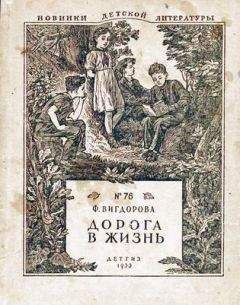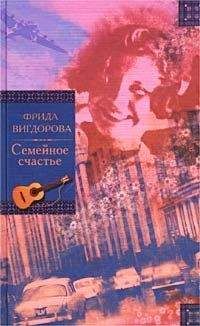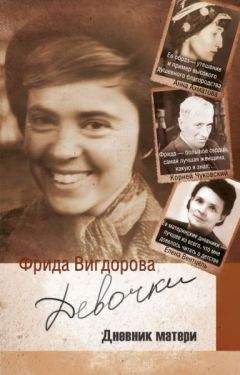Фрида Вигдорова - Кем вы ему приходитесь?
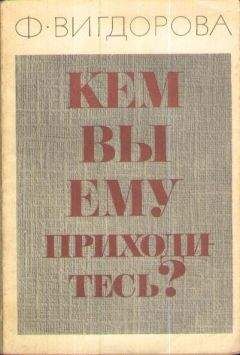
Помощь проекту
Кем вы ему приходитесь? читать книгу онлайн
«Рана от кинжала излечима, от языка — никогда», — говорит пословица. Лживый язык наносит раны, глазу не видимые, но разрушительные. Жало клеветы ядовито, и мы знаем немало случаев, когда она отравляла не иносказательно, а в прямом смысле этого слова: люди гибли, подточенные клеветой.
Маленькое отступление. На одном собрании встал человек и сказал:
— Я против того, чтобы избрать Петра Сидорова в местком: он горький пьяница и аморальная личность — женат в четвертый раз, а детей раскидал по свету.
Встал Петр Сидоров и ответил:
— У меня больная печень, и пить я попросту не могу. Я женился двадцать пять лет назад, с тех пор никогда не разводился и не далее как третьего дня справил серебряную свадьбу. Что до детей, то у меня их, к сожалению, нет ни одного.
Зал загудел, а человек, выдвинувший обвинение, скромно произнес оглушительную фразу:
— Мое дело — сообщить.
Над этими словами стоит задуматься. Ведь таких любителей «сообщить» немало. Их журят, они на время умолкают, а потом снова принимаются за любимое дело. Неужели из этого положения нет выхода? Есть. Если жалоба не подтверждается, написавший ее должен нести ответственность. «Мое дело — сообщить»? Нет, твое дело не только сообщить, но и отвечать. За каждое слово. Отвечать, как за удар ножом.
1963 г.
…Извлекает искры
Ректор Псковского педагогического института Иван Васильевич Ковалев сказал мне однажды, что с детства не забыл, как мужики из их села ходили в соседнее — «за розумом». Видно, там жили умные люди, оттого-то к ним и ходили посоветоваться, поспорить, одним словом — за розумом. Я думаю, что в педагогический институт молодой человек приходит за тем же: за розумом. Он приходит в надежде на то, что отпущенный ему природой ум развернется, что он научится не только накапливать знания, но и широко осмысливать их. Кроме того, и это не менее важно, институт должен разбудить в студенте учителя.
Я думаю, что в каждом человеке живет учитель. Только люди не всегда это осознают. Но оно так. Ты не преподаешь в школе, но ты воспитываешь своих детей. У тебя нет своих ребятишек, но ты работаешь на заводе, в учреждении, и если в тебе жив учитель, тебе легче будет среди людей. Только условимся: учитель — это не тот, кто постоянно читает нотации и школит окружающих. Учитель — это человек, который умеет слушать другого человека и понимать каждый характер.
Я начала свою учительскую работу в Магнитогорске. Я любила свою профессию, более того — я мечтала о ней со школьных лет. Мне дали хороший, слаженный третий класс. И в первые же дни мне показалось, что все пошло прахом. Я не могла бы сказать сейчас, какие ошибки я совершила; каждый мой шаг был ошибкой. Но почему, почему, ведь я так хорошо усвоила курс естествознания, истории, арифметики и прочих наук, которые надо было преподавать в начальной школе? Я училась в очень хорошем техникуме и до сих пор благодарна своим преподавателям. И все-таки, придя в школу, я вдруг поняла, что самая трудная задача вовсе не та, которой я боялась, и отношения ни к истории, ни к арифметике она не имеет. Одной из самых трудных задач оказался Петр Логвиненко.
В свои одиннадцать лет он считал, будто учиться ему решительно незачем. Переубедить его я не могла. Родители у него разошлись, и один месяц он жил у папы в Магнитке, другой — у мамы в Челябинске, третий — у бабушки в Златоусте… Притом и мать, и отец, и бабушка имели свою концепцию этого характера, так что задача становилась совсем неразрешимой. «Только лаской, он так раним», — писала мне Петина бабушка. «Наказывать», — был уверен отец. А мама говорила: «Не обращайте внимания, все обойдется». Поиски ответа в книгах — даже самых лучших — ни к чему не вели. Наверное, страх перед новизной задачи мешал видеть…
До сих пор считаю себя счастливым человеком оттого, что в школе, где я работала, были люди с большим учительским и душевным опытом. Они приходили на мои уроки. Приглашали меня к себе: смотри, учись. Я смотрела. Спрашивала. Не всегда соглашалась с тем, что видела, но и в несогласии было нечто такое, что помогало мне: я училась думать над задачей, которая называлась — дети.
Я полагала, что, еще учась в техникуме, любила учительскую работу. Нет, только придя к детям и хлебнув горечи, я поняла, что такое учительский труд. И тогда откликнулись и пришли на помощь знания, которые дал мне техникум. А беда, как я понимаю теперь, была в том, что я готовилась к теплу и безветрию. И не захватила в дорогу снаряжения на случай грозы и мороза. И конечно же я не умела думать. А умение думать в трудном учительском походе — главное снаряжение.
В педагогических вузах искренне хотят воспитать — и воспитывают — в студенте любовь к учительской профессии. Но любовь эта — умозрительная. Школой любуются, как парусником в далеком море: какая лазурь! А парус — как крыло невиданной птицы! А белоснежные облака… И все это далеко, далеко… Поясню свою мысль примером.
К студентам Ленинградского педагогического института имени Герцена пришла учительница Наталья Григорьевна Долинина. Ее пригласил клуб интересных встреч. Студенты слушали Долинину, соглашались, не соглашались, спорили, задавали вопросы, роптали, удивлялись. Все было, как в разговоре, который всех задел и никого в стороне не оставил. Преподаватели кафедры педагогики в этом разговоре участия не приняли. Но ушли они с этого диспута в большой тревоге. Тревога была настолько глубокой, что заставила их обратиться в газету. Суть же заботы заключалась в следующем: пристало ли со студентами педагогического вуза говорить о несовершенстве педагогической науки да еще заявлять: «Я — яростный противник педагогики в том виде, в каком она сейчас находится». И еще: на вопрос, как она воспитывает коллектив, Долинина ответила: «Пока я не привязалась к каждому и каждый ко мне, коллектива не будет. Чем же их объединить, если не общим интересом к себе — для начала?» Нет ли в таком ответе себялюбия, тщеславия и, поисков дешевой популярности? И наконец, Долинина согласилась со студентами, что материальное положение учительства трудное и что, по ее мнению, надо работать, не рассчитывая на то, что оно скоро изменится.
Я разговаривала с преподавателями, хотела понять, что привело их в такое смятение? И что, по их мнению, должна была ответить Долинина, к примеру, на вопрос о материальном положении учительства?
— Она должна была увести студентов от этого вопроса, — сказали мне.
В одном из своих писем Боткину Белинский говорит так: «Многих людей я от души люблю в Питере… Но… я начинаю замечать, что общество Герцена доставляет мне больше наслаждения, чем их: с теми я или говорю о вздоре, или тщетно стараюсь завести общий интересный разговор, или проповедую, не встречая противоречия, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения, я с ним спорю и, даже когда он явно врет, вижу все-таки самостоятельный образ мыслей».
Проблема «собеседника», видимо, сильно занимала Белинского потому, что вскоре, жалуясь тому же Боткину на пресные, без спора и увлечения разговоры с друзьями, он особо выделяет Тургенева, «самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры». Как не позавидовать человеку, у которого были такие собеседники! И видно, не только студенты и дети ходят в поисках «розума»… Но если даже для такого ума, как ум Белинского, необходима была сшибка с чужим мнением, с чужой мыслью, то как же это необходимо для ума, который растет и развивается!
Клуб интересных встреч — превосходная вещь. Но когда приглашаешь к студентам интересного человека, надо помнить: интересный человек — своеобычен и думает не по шаблону. А раз он таков, он непременно взбудоражит своих слушателей, заставит их спорить, думать, искать. Если учителя учителей к этому не готовы, то вместо клуба интересных встреч следует открыть клуб бесспорных вещаний.
К сожалению, встречи студентов с людьми их будущей профессии нередко проходят по такой парадной схеме: «Перед вами сейчас выступит заслуженный учитель (сталевар, врач, агроном…)». Затем заслуженный учитель выходит на трибуну и говорит о счастье быть наставником юношества. А потом молоденькая учительница расскажет, как она блистательно справилась со всеми встретившимися ей трудностями. Разумеется, кто-нибудь из выступающих честно предупредит студентов, что работа учителя трудна… Ну как тут не вспомнить парусник в далеком море? Какая лазурь! Какая синева!
И вот перед студентами появился человек, который только что сошел с корабля. Его там швыряли штормы, обдувало всеми ветрами. Он знал и солнечные дни, но знал и суровую непогоду. И о ней он тоже рассказал. Он уважал своих слушателей. Он был уверен, что воспитательский шаблон, в котором самое главное — перекачка сведений и проповедь, не встречающая осмысления, продиктован глубоким неуважением к студенту, к его способности видеть и понимать.