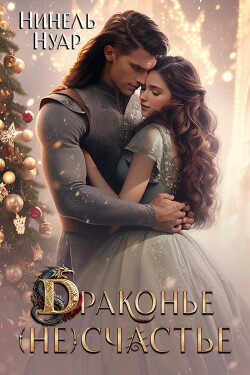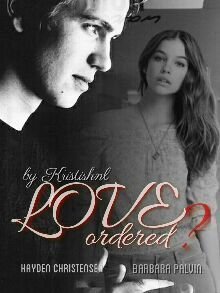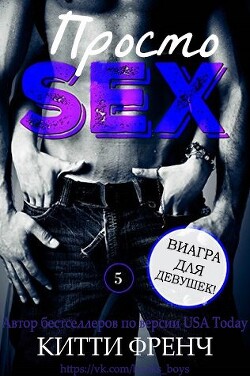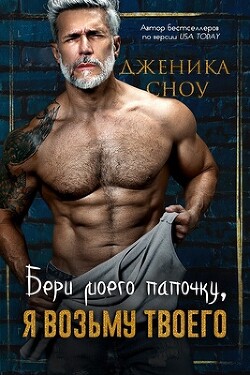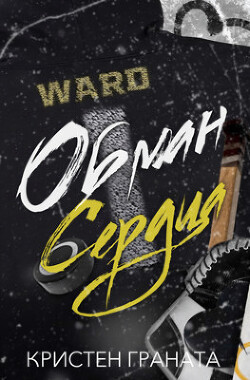Сборник Сборник - Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа

Помощь проекту
Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа читать книгу онлайн
Мы знаем о нем по газетным статьям, по слухам, по догадкам.
Есаул Пугачев, торговец дегтем, подрывник и знаток своеобразной, уже европеизированной казачьей техники, у Чужака модернизирован и лефизирован. Но все-таки чужаковский Пугачев, вероятно, наибольшее приближение к тому Пугачеву, которого еще построит историческая наука.
Статья Чужака о Рожкове в ссылке лучше его книги о Пугачеве.
В этой статье Чужак не работает определениями, а создает их.
Легко уличать человека в непоследовательности. Еще легче скрывать непоследовательность.
Трудно объяснить живого человека, но необходимо. Обычно живого человека объясняют через человека литературного. Проводят кривую живую линию к литературному многоугольнику. Даже слово живой так испортили, что скоро нужно будет говорить не живой человек, а дышащий человек.
Чужак как будто правильно нашел секрет рожковских колебаний.
«…Месяца за два до его конца мы встретились с ним у парадного подъезда Наркомпроса, и Н. А. стал излагать мне свою точку зрения на Пугачева. Последняя поразила меня своей рожковской простотой и деловитой ясностью. В уме скользнула аналогия…
…Мне скажут, что отношение мое к Рожкову — мало политическое и уж слишком какое-то… человячье. Может быть, это и верно. Но ведь задача моя была — сказать о Рожкове предельно так, как он сложился в моем представлении. И вот — простите — эту человячность Рожкова я никак не могу скинуть со счетов. В моменты драк политика, натурально, выпирает на передний план, — а схватываться нам с Рожковым приходилось, — в моменты же преобладания „органического“ просто-напросто странно было бы не попытаться охватить живой организм.
Я знаю: живого Рожкова у меня все-таки не получилось, да и вообще живого Рожкова нет, но я старался, уяснив, собрать хотя бы самые приметные его черты.
Вывод по самому больному вопросу такой:
Рожков, случалось, ошибался в оценке общей ситуации и в частностях и — ошибаясь — торопился на словах свернуть свои знамена. Но на деле… На деле он больше всего боялся, как бы не приняли его за саботажника, и „делал“ даже тогда, когда уже ничего нельзя было „поделать“. В этом он тоже ошибался. Тот, кто не ошибался никогда, сделает гораздо лучше…»
Этот живой Рожков — человек со своим делом и адресом.
Конечно, Чужаку ничего бы не стоило выпрямить его, выправить.
Так пугачевцы выправляли портреты Екатерины, пририсовывая к ним пугачевские бороды.
Забавно, что когда Пильняку понадобилось связать большевистскую революцию с пугачевщиной, то он дал одному из героев имя Пугачев и пририсовал к нему бороду, за что получил ироническое замечание от одного из критиков, участников революции: «Мы Пугачевых знаем, они бритые».
Работы Чужака прогрессивны тем, что он дает характеристики людей не стилизаторскими приемами.
Т. Гриц. Доброкачественная продукция
(К. С. Еремеев. «Пламя». Эпизоды октябрьских дней. Изд. «Федерация». Москва, 1928 г.)
Леф стоит не за всякие мемуары.
Мемуары пишутся в разных стилях: Болотов писал их по Лесажу, Жихарев — по Стерну, а Горький — воспоминания о Л. Толстом — приемами В. В. Розанова.
Рамки традиционной стилистической системы изгибают, деформируют факты, подчиняют их своим законам, особенно в отношении семантики. Поэтому мы стоим за такую подачу материала, которая бы менее всего его искажала.
Метод, за который мы боремся, не равен простому стенографированию, так как в последнем случае факты выстригаются под гребенку, исчезает их разнозначимость, противопоставленность, притупляется их функциональное острие. Поэтому новые фактограммы (дневники, мемуары, записные книжки, биоинтервью) должны строиться особыми методами селекции и монтажа материала, методами, которые вырабатываются не в беллетристике, а в журналах, газетах, в дневниках путешественников, в трудах по этнографии и социологии.
На пути к такой фактографической прозе стоит «Пламя» Еремеева. Это — запись октябрьских событий, главным образом гражданских боев в Ленинграде, и затем описание похода на помощь восставшей Москве.
Недостатком книги Еремеева является то, что автор во многих случаях описывает не отдельные конкретные факты, могущие попасть в поле зрения наблюдателя, а общие контуры, до некоторой степени абстрагированные и известные читателю из общих трудов по истории Октябрьской революции. Этот отход от конкретности особенно чувствуется в главе «На фронте перед Октябрем».
Значительно лучше выходят у Еремеева те места, где он суживает поле своего наблюдения и записывает отдельные мелкие эпизоды. Разговоры солдат на фронте, отношения их к надвигающимся событиям, описание боев под Пулковом — значительно лучше и ценнее, чем схематические рассуждения о магистральных движениях Октября.
Еремеев рассказывает, как после октябрьских событий он зашел в чайную и разговорился с хозяином, религиозным черносотенцем. Язык последнего необычайно колоритен, и весь этот эпизод, отмечая быстроту рождения фольклора, доходит до читателя своей конкретностью.
Кстати, в языке своем Еремеев полярен орнаменталистам, воспитавшимся на культуре стиха.
Еремеев пользуется минимальным количеством метафор, метонимий и других средств «украшенной» прозы.
Язык его лаконичен и деловит, как оперативная сводка.
Книга Еремеева — на пути к нужной нам очерковой прозе.
С. Третьяков. Продолжение следует
Профессиональное писательство (это, впрочем, относится и ко всем другим видам искусств) представляет собою корпорацию кустарей, работающих на фетишизированном материале фетишизированными приемами и свято оберегающих эти приемы от всякого рационализаторского воздействия.
Средневековый гонец-скороход в наше время стал телефонным коллективом; переписчик книг — типографией; менестрель — газетой. Все изменилось, но сохранился писатель-индивидуал со своим «стилем», «вдохновением» и «свободой», т. е. произволом формальным и производственным.
Мы живем в эпоху социального плана и социальной директивы. От хаоса, от бессознательного нащупывания нужных путей мы переходим к сознательному их проектированию в любой области, не исключая и искусства.
Вся целевая установка нашего государствования диктует и работнику искусства предельную целеустремленность и социальную функциональность работы, понимая под этим подчинение и материала и методов обработки общественной задаче.
И вот тут-то привычные навыки и методы писателя вступают в конфликт с плановостью и директивностью.
Не так давно в доме Герцена, на докладе Керженцева, Эфрос сказал примерно следующее:
«Писатель — термометр, опущенный в общественную среду. Не насилуйте его, не заставляйте его показывать то, что угодно вам!»
А Б. Пильняк подбавил:
«Талантливый писатель — бездарный политик».
У нас ЦСУ. У нас есть армия рабкоров. У нас есть политические съезды; партия, ЦК. Словом — огромный аппарат, который всасывает в себя факты и, научно обрабатывая их, осуществляет политическое предвидение. Но рядом с этим у нас есть «термометр», работающий методами не научными, а иррациональными, эмоционально-интуитивными, именуемый писателем, и над «термометром» этим, над его чревовещанием трудятся специальные гадальщики (так называемые критики), подобно тому, как в древнем Риме авгуры судили о будущем по кишкам с веже вспоротой курицы.
Писатель, видите ли, особенный, неповторимый, несоизмеримый с другими, ясновидец, пророк и прочая, и прочая, и прочая! Разве можно уложить его на узком ложе политики! Что ему директива! Он сам свой высший суд, и директива, и политбюро. Он тот самый дурак, которому закон не писан, что, впрочем, его не столь смущает, сколь радует.
Писательский кустарный индивидуализм неизбежно порождает таким образом недоверие к отчетливому общественно-политическому мышлению, недоверие к директиве и пытается право на это недоверие оправдать и защитить.
Но, рядом с индивидуалом недоверяющим ходит индивидуал же «передоверивший» без остатка право самостоятельного общественно-политического мышления. Он тоже торгует с лотка, но не интуицией, не индивидуальным стилем, а предельной гибкостью этого стиля, спецовской умелостью, узким техницизмом.
Для вторых редакциями заготовляются не только темы, но и эпиграфы. По требованию редакторов они могут одной и той же рукой в течение одного и того же часа написать два произведения, взаимно друг друга уничтожающие. Они гордятся только быстротой работы и качеством отделки и совершенно не отдают себе принципиального отчета в том, что они делают. Когда их спрашивают, какой точки они держатся по спорному общественному вопросу, они отвечают: «мы наточке зрения… резолюции».