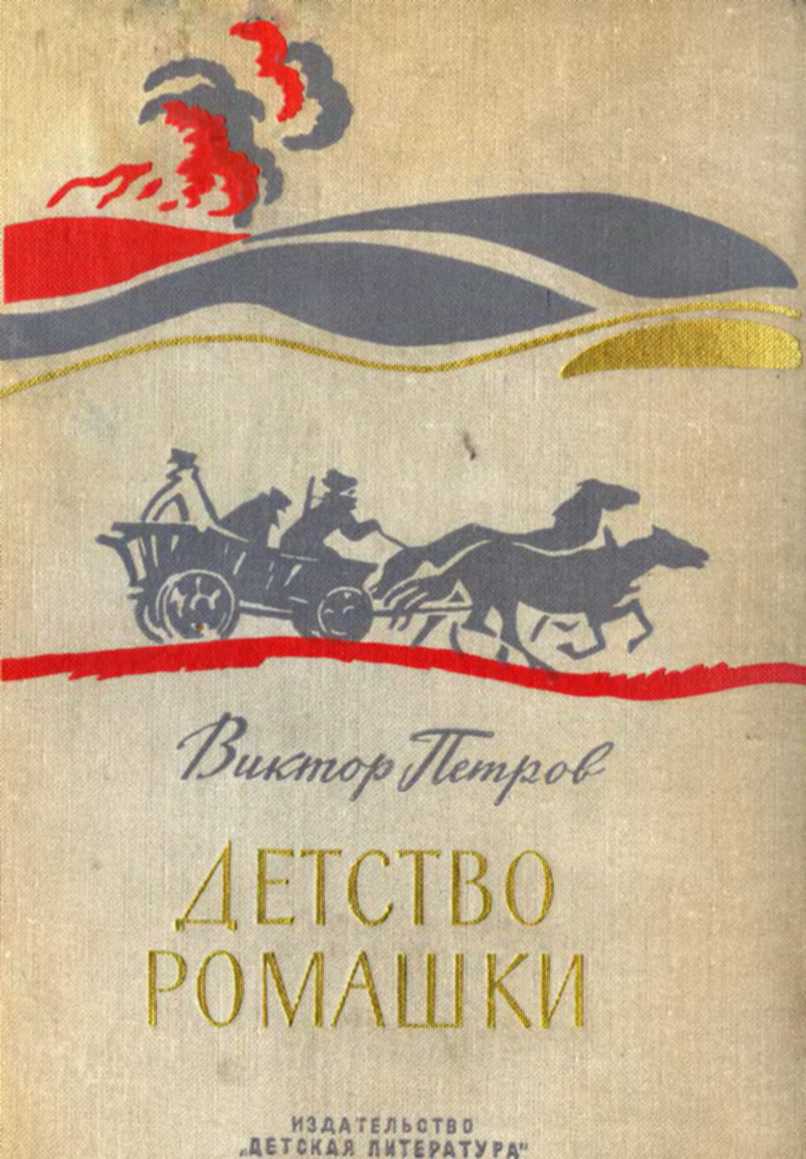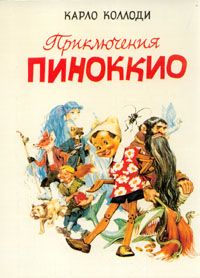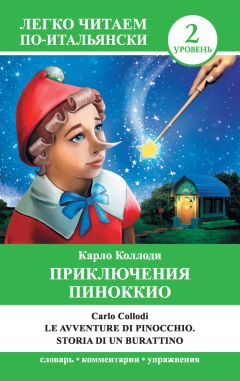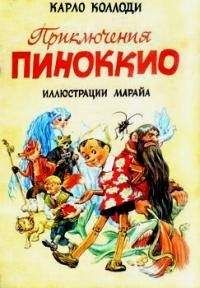Деревянные глаза. Десять статей о дистанции - Карло Гинзбург
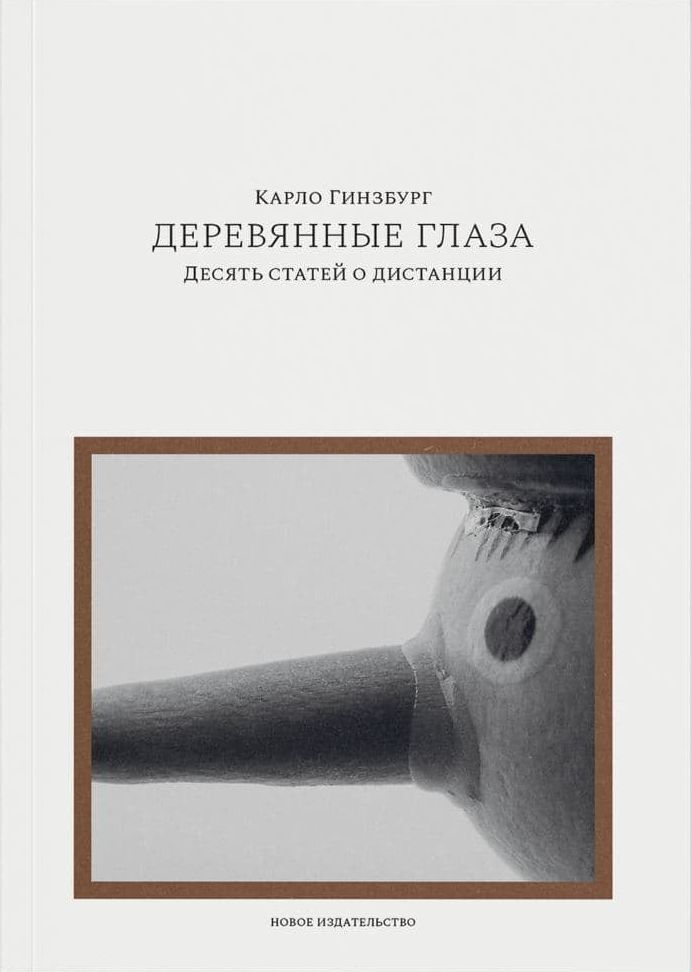
Помощь проекту
Деревянные глаза. Десять статей о дистанции читать книгу онлайн
И все-таки между взглядами «изнутри» и «извне» сохраняется существенная асимметрия. Наша непостоянная, но ответственная приверженность собственной науке распространяется на то, что мы говорим об экзотических культурах, однако не затрагивает того, что говорят о ней их носители (insiders)[652].
Асимметрию между нашими словами и их словами, акцентированную Куайном (а до него – Пайком), чувствуют и историки: как говорит пословица, «прошлое – это другая страна»[653]. Неудивительно к тому же, что упомянутая асимметрия была впервые артикулирована и осмыслена именно антропологом. Расстояние, лингвистическое и культурное, обычно разделяющее антропологов и так называемых аборигенов, предохраняет ученых от убеждения, часто свойственного историкам, будто они стали наперсниками изучаемых ими персонажей. Как я отметил выше, чревовещание – это профессиональный недуг, которому подвержены многие историки. Однако, конечно же, не все.
Кто-то однажды заговорил об «эмической» антропологии, особенно преданной делу спасения «точки зрения туземцев», используя слова Малиновского[654]. По аналогии можно говорить и об «эмической» историографии. Достаточно будет указать на три блестящих исследования: статьи Пауля Оскара Кристеллера и Аугусто Кампаны о происхождении слова «гуманист» («humanista») и малоизвестную лекцию Эрнста Гомбриха о Ренессансе как периоде и движении[655]. Все трое предпринимают попытку реконструировать категории, которыми пользовались исторические акторы. Эти категории отличались от понятий, использовавшихся наблюдателями, между тем как именно внешняя точка зрения часто формирует мышление сообщества, куда более многочисленного, нежели круг профессиональных историков. В финале своей статьи Кампана заметил, что недавно (это было написано в 1946 году) кто-то заговорил о «новом гуманизме: и старое слово наполнилось новыми идеалами. Будущие филологи и историки будут заниматься ими». Однако в постскриптуме, опубликованном год спустя, Кампана прибег к более сильным выражениям: он полагал, что Кристеллер, в работе о том же сюжете, написанной независимо от него, показал, что современное понятие «ренессансного гуманизма… несостоятельно»[656]. Несостоятельно, конечно же, с филологической точки зрения. Это не мешает нам использовать такие категории, как «Ренессанс» (как сам же Кампана затем делал)[657]. Однако мы должны всегда осознавать, что какими бы полезными они ни были, подобные обозначения остаются условными. Те, кто прилагает множество усилий, чтобы обнаружить подлинные признаки гуманизма, Ренессанса, современности, XX века и пр., мягко говоря, лишь впустую тратят свое время.
8«Эмическое» измерение, которое я предложил путем эксперимента искать в историографии, может быть описано с помощью более древних и привычных слов: филология, любовь к древности. (Антропология родилась от любви к древности, таким образом круг замкнулся.) Однако механически переносить оппозицию между «эмическим» и «этическим» на историографический дискурс было бы ошибкой. Исходя из собственного опыта, историки могли бы указать, что дихотомия «эмического»/«этического» во многом упрощает дело. Как показывает мое фриульское исследование, и «эмическое», и «этическое» измерения служат театром конфликтов – между инквизиторами и benandanti (в первом случае), между учеными разных направлений (во втором случае). Однако рефлексия над различением «эмического» и «этического» способна помочь историкам освободиться от предрассудка этноцентризма, решить задачу, которая становится все более насущной в глобализующемся мире, ибо процесс глобализации, хотя и протекал в течение веков, лишь в последние десятилетия набрал поистине безумную скорость.
Историки обязаны принять этот вызов – вопрос лишь в том, как? Один из ответов был сформулирован в ходе дискуссий о литературных текстах, в частности в знаменитой статье Эрика Ауэрбаха «Филология мировой литературы (Weltliteratur)», вышедшей в 1952 году и сегодня обретающей почти профетический смысл мрачного пророчества[658].
В разгар холодной войны Ауэрбах увидел, сколь широко распространилась тенденция к культурной однородности, явлению, которое, несмотря на очевидные различия, затронуло оба блока. Мир становился все более и более одинаковым; даже национальные государства, в прошлом бывшие агентами культурной дифференциации, потеряли часть своего влияния. Массовая культура (Ауэрбах не использовал этот термин, но он тем не менее отражает истинный смысл его анализа) распространилась на всей поверхности земного шара. Weltliteratur возникала в контексте, радикально отличном от того, который воображал Гёте: в этой версии мировой литературы Европе принадлежала маргинальная роль. Столкнувшись со столь внушительной экспансией в пространстве и времени, даже такой разносторонний ученый, как Ауэрбах, ощутил скудность собственного инструментария. Так, Ауэрбах дал совет молодым исследователям-филологам, одновременно позитивный и негативный. С одной стороны, он предложил им избегать общих понятий вроде Возрождения или барокко, а также монографического подхода, основанного на творениях одного-единственного автора. С другой, он рекомендовал обратиться к поискам специфических деталей, способных служить в качестве отправной точки (Ansatzpunkte) анализа.
Ауэрбах намекал на метод, которым он руководствовался при создании великого «Мимесиса». Однако в 1952 году рассуждения, впервые сформулированные им почти десятью годами ранее в финальной части «Мимесиса», развивались в ином направлении. Если значение европейской традиции больше не было само собой разумеющимся, на первый план, хотя и подспудно, выходила проблема обобщения. Обобщение – но начиная с какого момента и с какой целью?
Несколько лет назад, в статье «Гипотезы о мировой литературе», Франко Моретти (любопытным образом, не упоминая об Ауэрбахе) отважно решил эти вопросы[659]. Столкнувшись с проблемой огромного количества текстов, которое ни один филолог-компаративист не в состоянии усвоить, Моретти предложил радикальное решение: опосредованное (second-hand) чтение. Приверженцы сравнительного подхода к мировой литературе могли бы формулировать общие вопросы, используя выводы тех ученых, которые работали в более ограниченном масштабе отдельных национальных литератур. Таким образом, компаративная история литературы может основываться не на «пристальном», а на «отдаленном» чтении. Это сформулированное в сознательно провокативном тоне предложение строилось на аргументах, восходящих к статье Марка Блока, которую я упомянул в начале: «К сравнительной истории европейских обществ». Полезно было бы сопоставить два смыслообразующих фрагмента из трудов Моретти и Блока (в переводе). Моретти:
В статье о сравнительной социальной истории Марк Блок предложил прекрасный «лозунг» – как он сам его охарактеризовал: «годы анализа ради одного дня синтеза». Если почитать Броделя или Валлерстайна, то сразу становится понятно, что имел в виду Блок. Текст, который в полной мере принадлежит Валлерстайну, его «день синтеза», занимает треть страницы, четверть, изредка – половину; все остальное – цитаты (их 1400 в первом томе «Современной миросистемы»). Годы анализа – анализа, проделанного другими людьми, работа которых синтезируется в систему на одной странице у Валлерстайна[660].
«Как было когда-то сказано – годы анализа ради одного дня синтеза», – писал Блок. Он ссылался на фрагмент из введения Фюстеля де Куланжа к его «Римской Галлии», опубликованной в 1875 году. В примечании Блок привел точную цитату: «Один день синтеза требует многих лет анализа». Ни одно суждение