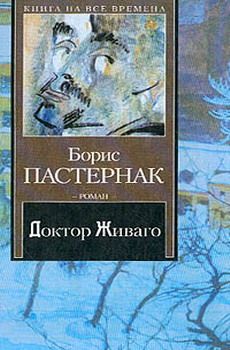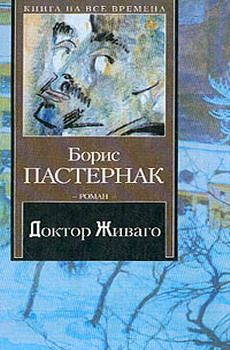Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
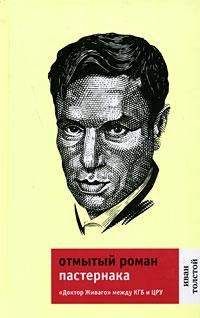
Помощь проекту
Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ читать книгу онлайн
Редакция «Нового мира», осень 1946 года. Ивинская вспоминает:
«И вот он возле моего столика у окна – тот самый щедрый человек на свете, которому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости. Что за счастье участвовать в удивительных взлетах и падениях, от звездных садов до пищевода, по которому текут эти звезды, проглоченные соловьями всех любовных ночей!
Такое о нем уже говорили: приглашает звезды к столу, мир – на коврик возле кровати.
Мне нужды нет, что тогда говорили! Я это заново для себя говорю, рассказывая самой себе. Какое же счастье, ужас и сумятицу принес мне этот человек... » (Ивинская, с. 18).
Это был пылкий и вдохновенный роман двоих, уверовавших в молодость своих чувств и в свою незаменимость для другого. Пастернак смущенно говорил: «Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы». Ивинская: «Я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога».
Он дарил ей свои старые сборники и новые стихи, брал ее с собою на чтение только что написанных глав, без конца звонил по телефону – а поскольку у Ивинской телефонного аппарата не было (забытые обстоятельства советского времени!), то приходилось набирать нижнюю соседку, та стучала ножом по трубе отопления, и «я сломя голову опять мчалась вниз к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед».
Они были совершенно счастливы.
У Ивинской был несомненный литературный талант, и поэзию она любила совершенно искренне, так что книга ее воспоминаний о последних четырнадцати годах пастернаковской жизни «В плену времени» получилась (при многочисленных ошибках памяти) одной из самых жарких и приключенческих в русской мемуаристике.
Но репутация...
Ирина Емельянова поставила себе задачей отстоять честь матери от «клеветы» мемуаристов и в двух книгах – «Легенды Потаповского переулка» (1997) и «Пастернак и Ивинская»
(2006) , а теперь и в третьей, «Годы с Пастернаком и без него»
(2007) – выступила в ее защиту. С задачей Емельянова не справилась, и если бы «клевете» она противопоставила только рассказ о любви матери и «классюши» (как они семейно называли Бориса Леонидовича), это оставалось бы милой слабостью «Легенд Потаповского переулка» – книги во многом обаятельной, хоть и не полной.
Беда в том, что вовсе не в любви сомневались «клеветники». По большей части повторив свою же первую книгу, Емельянова во второй добавила несколько страниц и отдельных мест, посвященных борьбе за материнскую честь. Но борьба получилась конспективной и поспешной, изложенной как-то вполоборота, скороговоркой.
Нам не было бы решительно никакого дела до репутации Ольги Всеволодовны, если бы всё, связанное с нею, не волновало самого Пастернака, если бы разговоры о ней не определяли многих поступков – в том числе, семейной драмы Бориса Леонидовича. Если бы, мучаясь от всего этого, он сам не старался придать общественному лицу Ивинской совершенно определенное, оправдательное выражение, и если бы, наконец, раздвоенность чувств, художественно преодоленная автором, не стала содержанием «Доктора Живаго».
В первые месяцы романа с Ивинской окружающие воспринимали пастернаковскую спутницу вполне благосклонно, что для злых языков литературного сообщества было хорошим знаком. Лидия Чуковская, например, дарила ей свою фотографию с надписью: «Оленьке, самой счастливой женщине на свете», Анна Ахматова надписывала ранние сборники своих стихов.
Но, рассказывает Ирина Емельянова,
«слухи, сплетни, волны неприязни и зависти росли вокруг мамы как снежный ком. (...) Л. К. Чуковская (...) начинает ее ненавидеть, рассказывая о ней Ахматовой всякие небылицы. Кланы писательских жен объявляют ее авантюристкой, соблазнившей престарелого поэта» (Пастернак и Ивинская, с. 65).
С чего бы это вдруг? Ни одна в мире сплетня, ни одно прозвище, ни один шлейф не увиваются за человеком на пустом месте. Расскажи Емельянова сама, как было дело, и клеветники были бы посрамлены. Вот некоторые из «небылиц» Лидии Чуковской, изложенные в ее «Записках об Анне Ахматовой»:
«Меня потрясла степень человеческой низости и собственная своя, не по возрасту, доверчивость. К тому времени, как я доверила Ивинской деньги, вещи, книги и тем самым – в некоторой степени и чужую судьбу, я уже имела полную возможность изучить суть и основные черты этой женщины. (Мы работали вместе в отделе поэзии в редакции симоновского „Нового мира“.) Началось с дружбы. Кончилось – еще до ее ареста – полным отдалением с моей стороны. Ивинская, как я убедилась, не лишена доброты, но распущенность, совершенная безответственность, непривычка ни к какому труду и алчность, рождавшая ложь, – постепенно отвратили меня от нее» (Чуковская, т. 2, с. 658).
Такие обвинения, безусловно, требуют доказательства. И Чуковская их приводит.
«Там, в лагере (Ивинскую арестовали в 1949. – Ив. Т.), она познакомилась и подружилась с моим большим другом, писательницей Надеждой Августиновной Надеждиной (1905—1992). Воротившись, Ивинская ежемесячно, в течение двух с половиной лет брала у меня деньги на посылки Надежде Августиновне (иногда и продукты, и белье, и книги, собираемые общими друзьями). Рассказала я Анне Андреевне (Ахматовой. – Ив. Т.) и о том, как сделалось мне ясно, что Н. А. Надеждина не получила от меня за два с половиной года ни единой посылки: все присваивала из месяца в месяц Ольга Ивинская. В ответ на мои расспросы о посылках, она каждый раз подробно докладывала, какой и где раздобыла ящичек для вещей и продуктов, какую послала колбасу, какие чулки; длинная ли была очередь в почтовом отделении и т. д. Мои расспросы были конкретны. Ее ответы – тоже. Через некоторое время я заподозрила неладное: лагерникам переписка с родными – и даже не только с родными – тогда уже была дозволена, посылки издавна разрешены, а в письмах к матери и тетушке Надежда Августиновна ни разу не упомянула ни о чулках, ни о колбасе, ни о теплом белье. Между тем, когда одна наша общая приятельница послала ей в лагерь ящичек с яблоками, она не замедлила написать матери: "Поблагодари того неизвестного друга, который... "
Я сказала Ивинской, что буду отправлять посылки сама. Она это заявление отвергла, жалея мое больное сердце, и настаивала на собственных заботах. Тогда я спросила, хранит ли она почтовые квитанции. «Конечно! – ответила она, – в специальной вазочке», – но от того, чтобы, вынув их из вазочки, вместе со мною пойти на почту или в прокуратуру и предъявить их, изо дня в день под разными предлогами уклонялась. (Вазочка существовала, квитанции нет, потому что и отправлений не было.)
Н. А. Адольф-Надеждина вернулась в Москву в апреле 1956 года. (...) Мои подозрения подтвердились: ни единой из наших посылок она не получила. Надежда Августиновна сообщила мне: в лагере Ивинская снискала среди заключенных особые симпатии, показывая товаркам фотографии своих детей (сына и дочери, которые были уже довольно большие к началу знакомства ее с Борисом Леонидовичем) и уверяя, будто это «дети Пастернака». Правда, симпатии к ней разделяли далеко не все: так, Н. И. Гаген-Торн (1900—1986) и Е. А. Боронина (1908– 1955), вернувшиеся из той же Потьмы, отзывались об Ивинской, в разговорах со мной, с недоумением. По их словам, начальство явно благоволило к ней и оказывало ей всякие поблажки.
Свой первый арест и пребывание в лагере Ивинская объясняла тем, что она – жена гонимого поэта. Для меня эта версия звучала в новинку: накануне ареста 1949 года она рассказывала мне, что ее чуть не ежедневно тягают на допросы в милицию по делу заместителя главного редактора журнала «Огонек», некоего Осипова, с которым она была близка многие годы. Осипов, объясняла мне тогда Ольга, присвоил казенные деньги, попал под суд, и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она. (За истинность ее объяснения я, разумеется, не отвечаю, но рассказывала она – так.)» (там же, с. 658—659). Прервем рассказ Лидии Чуковской для еще одного свидетельства, до сих пор в печати не появлявшегося. Как расска зывала москвичка Лидия Николаевна Радлова (дочь известного художника), Ольга Ивинская в конце 40-х годов разыскивала в литературных кругах людей, которые соглашались оформлять на свое имя написание статей и внутренних рецензий для «Огонька». Рецензии эти, на самом деле, писали осиповские друзья, а деньги выписывались на подставных лиц, которые отдавали Осипову часть гонорара, а часть оставляли себе. Поиском подходящих «рецензентов» и занималась Ольга Всеволодовна. Ей не удалось склонить к сотрудничеству Л. Н. Радлову и ее мужа, но некоторые литераторы (один из них – впоследствии видный историк-эмигрант, другой – популярный советский пушкинист) получили лагерные сроки.
Лидия Чуковская продолжает:
«После ареста – сначала в лагере, а потом и на воле – она сочла более эффектным (и выгодным) объяснять причины своего несчастья иначе: близостью с великим поэтом. (...) Мало того, что, вернувшись в Москву, Ивинская регулярно присваивала деньги, предназначавшиеся друзьями для поддержки Н. А. Адольф-Надеждиной. Когда в 1953 году, освобожденная, она уезжала в Москву, – она взяла у Надежды Августиновны „на несколько дней“ плащ и другие носильные вещи, обещая срочно выслать их обратно, чуть только доберется до дому. Приехав домой, однако, она не вернула ни единой нитки» (там же, с. 659—660).