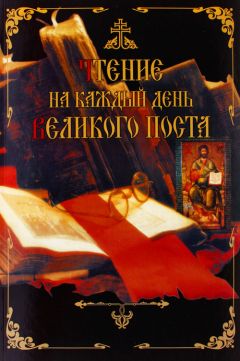Литературка Литературная Газета - Литературная Газета 6495 ( № 14 2015)

Помощь проекту
Литературная Газета 6495 ( № 14 2015) читать книгу онлайн
Конечно, непрочитанных авторов и без меня много. Не прочитан мой абсолютно любимый Михаил Квадратов. Не прочитан пронзительный Сергей Шестаков. Не прочитан Константин Рупасов. И Дмитрий Мельников не получил должного признания.
Но за свои книжки я отвечаю сам, и если говорить о гипотетической четвёртой книжке, то я боюсь её выпускать в пустоту. Выход книги должен быть подготовлен. Её должны ждать. Не ждёте? Ну и ладно, будем беречь леса.
– Но вот одно из последних ваших стихотворений, в котором вы относите к молодым поэтам Моторолу, Безлера и Мозгового, буквально взорвало интернет. Больше всех негодовали молодые и «актуальные» поэты. Оскорбились...
– Взрывать интернет мне случалось, но не по этому поводу; если и были обсуждения, то они прошли мимо меня.
Да, было у меня такое полемическое стихотворение. Вряд ли разумный человек поймёт его буквально, хотя легендарный луганский командир Алексей Мозговой, например, и в самом деле пишет стихи. Но я прежде всего намекал на то, что поэзии сейчас приходится конкурировать с несколькими мощными каналами информации, в том числе и со сводками новостей. В этой конкуренции поэзия чаще всего проигрывает, и стихотворцы замыкаются в своей тусовке, устанавливают в свои мозги информационные фильтры и начинают под микроскопом разглядывать «молодых поэтов», зачастую вялых и невыразительных, не замечая слона истории, топчущего их хилые посевы.
– А что происходит с литературой в таком случае? «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Но сейчас в этой среде и поэтами назначаются, и гражданами быть не хотят. Чего ж обижаться на то, что кто-то считает Моторолу человеком, более причастным к русской словесности и вообще более достойной личностью?
– Мне бы не хотелось вещать о «роли литературы», об «ответственности писателя». Я – частное лицо, время от времени пишущее стихи. Рядом со мной – множество других таких же частных лиц, и они в самом деле иногда собираются в группы, назначают друг друга поэтами и даже самовольно учреждают премии. Эта литературная бесхозность и безначальность, как административная, так и эстетическая, наверное, даёт невиданную свободу для творчества, хотя и без гарантии результата. Никто не может сказать наверняка, какими должны быть стихи сегодня и что именно мы будем называть стихами завтра. Стихотворец напоминает старателя, который застолбил свой участок, но не знает, найдёт ли он там золото.
Гражданская позиция для меня – тоже частное дело, которое я не вправе никому навязывать. Я полностью осознаю, что никаких пряников мне за неё не видать. Инвалидам локальных войн у нас говорили: «Мы вас туда не посылали». В случае чего мне тоже скажут: «Мы тебя не посылали на информационную войну».
Гражданского чувства сейчас у стихотворцев много, но важно, чьими гражданами они себя ощущают. Один поэт-эмигрант заявил, что все самые сильные, на его взгляд, стихотворцы поддержали майдан. Думаю, он преувеличивает. Но я с сожалением признаю, что многие интересные мне современные поэты оказались не с нами. Зато с нами Юнна Мориц, которая пишет стихи не пером, а миномётом и по актуальности может сравниться с Моторолой.
– Сейчас много разговоров о возможной гражданской войне в России. Полагаете, что такой сценарий у нас невозможен?
– У нас с Украиной общая гражданская война. Там горячо, здесь пока попрохладнее. Есть люди, которые любят поговорить о «холодной гражданской войне», об «атмосфере ненависти» и мыслят себя равноправной стороной гражданского конфликта. Но они зря накликают на себя бурю: для того чтобы физически ликвидировать эту сторону, было бы достаточно одной ночи не самых длинных ножей. Именно поэтому до горячей фазы здесь не дойдёт – просто нет повода.
– А что возможно?
– А возможно (и желательно) постепенное, эволюционное очищение национального организма от шлаков и токсинов.
Беседу вёл Игорь ПАНИН
Теги: Игорь Караулов
Территория Олега Куваева
Этот автор и эта книга вроде бы полузабыты, ушли в отвалы литературы советской эпохи, но те, кто помнит, говорят о них вот так:
"Это была настольная Библия, наверное, для каждого советского геолога".
«И если как в том дурацком вопросе - какие три книги взять на необитаемый остров – мне придётся выбирать, Олег Куваев в этот выбор войдёт обязательно. Не гений пера, не гений сюжета – гений человечности. Олег Куваев – это имя для меня свято». Ровно сорок лет назад его не стало.
Олег Михайлович Куваев (1934–1975) родился в вятской деревне, окончил Московский геолого-разведочный институт, лучшие годы жизни провёл на Чукотке и умер от инфаркта в подмосковном Калининграде/Королёве, где сейчас находится скромный музей.
Публиковаться он начал с конца 1950-х годов. Но до поры до времени он был одним из пишущих геологов, автором журнала «Вокруг света» и приложения к нему «Искатель». Путевые очерки и выраставшие из них повести и рассказы были типичной литературой бывалых людей, заменяющей одним читателям реальное путешествие, а другим – позволяющей сравнить свои впечатления с авторскими.
Главным местом, хронотопом куваевской прозы стала Чукотка, которую он хорошо знал как геолог, хотя действие некоторых его произведений происходит и в Сибири, и на Кавказе.
В отличие от литературных нравов 60-х годов, когда слова «старик, ты гений» были так же обыденны, как «здравствуйте», Куваев трезво оценивал свои вещи и не завышал, а скорее занижал свои возможности. Уже в начале 70-х, когда жить ему оставалось совсем немного, на просьбу назвать лучшие произведения он вспомнил три рассказа и две повести, которые «достаточно «на уровне», а о других отозвался жёстко: «Всё остальное туфта. Нету полёта. Посему отношу его не к прозе, а к беллетристике».
Настоящим прозаиком Олег Куваев стал в романе «Территория» (1974), переписанном то ли шесть, то ли восемь раз, сразу отмеченном, замеченном и даже награждённом – посмертно – как «лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе».
Куваев, думаю, был бы обрадован, но удивлён. Неужели под рабочим классом подразумевались работяги-бичи? Главные его герои, начальники геологических партий и управления, были явно выше этого статуса.
Сам автор понимал дело лучше, чем номинаторы и критики. В конце одного из писем появляется блестящая формула-афоризм: « А вообще это написано о Территории, и пусть каждый ищет её где желает» (здесь и далее выделено мной. – И.С. ).
Через несколько месяцев, во время работы над так и не законченным романом «Правила бегства», она конкретизируется: «Действие его <нового романа> происходит где-то рядом с изобретённой мною страной «Территорией» . Я называю Территорию «изобретённой страной», ибо это на самом деле так – прямые географические аналоги невозможны, что бы там ни говорилось».
Искать ключ к тексту нужно не там, где это обычно делалось. «Территория» – не производственный, исторический, приключенческий или социально-психологический роман. Олег Куваев интуитивно нашёл иной способ изображения людей и времени.
Где происходит действие романа? Очевидный ответ: на Чукотке. Но слова «Чукотка» и «чукча» в разных падежах и вариантах в окончательном тексте романа не встречаются ни разу!
Счастливо найденный заголовок, который можно считать ключом к поэтике романа, появился после долгих поисков. До этого было более десятка вариантов: «Долгая якутская зима», «Часть божественной сути», «Яростный свет и потёмки»[?]
«Территория» подходит к тексту «с точностью патрона, досланного в патронник».
Доминантный хронотоп конкретизируется в цепочке аналогичных образов – Посёлок, Город, Река – и включается в государство (уже с маленькой буквы). Как будто осваивающий мир человек, новый Адам, даёт названия впервые увиденным местам, ещё не подозревая, что посёлков, городов и рек может быть много. «Возникновение Посёлка на пустынном морском берегу в простоте своей уподоблялось зарождению городов древности».
Так что Территория – не Чукотка, хотя её пейзажи и конкретные детали пришли именно оттуда. И государство, которому она служит и внутри которого она находится, – не СССР (эта аббревиатура тоже не встречается в романе ни разу), хотя действие ненадолго переносится в Москву, Ригу и Хиву).
Территория – созданный, сконструированный автором иной мир, даже другая планета. «Рейс ваш окончится не на той планете, с которой начался». Советское освоение Чукотки опиралось на две могущественные организации: Дальстрой и Севвостлаг. На Территории же существует Северстрой, но не мелькает ни одной лагерной вышки. Шаламовские «Колымские рассказы» написаны о совершенно другой «планете Колыме».