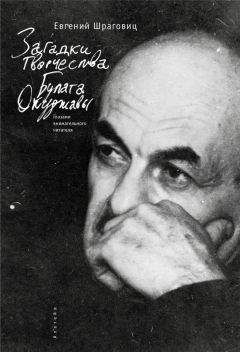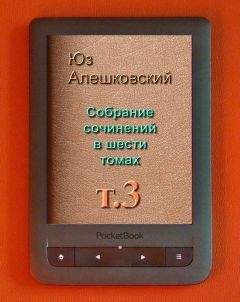Станислав Рассадин - Книга прощания

Помощь проекту
Книга прощания читать книгу онлайн
Очерк Пастернака «Люди и положения» написан двумя годами раньше этих стихов; представлен в «Новый мир» в следующем, 1957-м; напечатан будет лишь через восемь лет, посмертно, и я по неведению не мог спросить Николая Николаевича: дескать, не был ли этот самый «картофель» полемическим откликом на слова Бориса Леонидовича о том, что после сталинской фразы насчет «лучшего, талантливейшего» Маяковского «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине»? Этого так и не знаю и не узнаю, отметив, однако, что, во-первых, «Встреча» ритмически явственно перекликается с пастернаковской «Смертью поэта» (1930), а во-вторых, то стихотворение тоже было обкарнано редактором при публикации – и тоже за счет заявки на предпочтительную, исключительную близость к покойному.
(Кто не помнит, вот финал «Смерти поэта», в свое время в печати не появившийся:
Друзья же изощрялись в спорах,
Забыв, что рядом – жизнь и я.
Ну что ж еще? Что ты припер их
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?
Но мрази только он и дорог.
На то и рассуждений ворох,
Чтоб не бежала за края
Большого случая струя,
Чрезмерно скорая для хворых.
Так пошлость свертывает в творог
Седые сливки бытия.
Тоже? И это при том, что у Пастернака претензия на особое родство заявлена прямо, в пику «друзьям», средь коих, разумеется, и Асеев, действительно споривший, в том числе с самим Маяковским. Разругавшийся было с ним из- за отступничества от лефовских принципов и вступления в РАПП, – а у «Коляды» такой претензии вроде бы нет?
Есть, есть. Непрямая, но убедительная, воплощенная в «странности», «инакости» образов, тем самым уже заявляющая об отдельности.
В результате Асеева, «наиболее ортодоксального «маяковца», как еще на Первом съезде писателей его двусмысленно окрестил Бухарин (а злоязычный соперник Сельвинский попросту называл «деталью монумента» при заживо бронзовеющем Маяковском), незагаданно символическим жестом отсекли от кумира и друга. Выражаясь по-детски: не выставляйся, будь на уровне общих признаний и клятв – как все. Маяковский – наш, именно общий, а не лично твой…
Может быть, ужасней всего то, что у цензуры была, повторяю, логика – не только касательно «огосударствления» Маяковского, но и в отношении самого Асеева. Изначаль- но-то он был поэтом совсем иной породы: «Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути», но, следуя за направляющим, методически наступал на свое пульсирующее лирическое горлышко. Отчего в его наследии «за сорок лет», в потоке продукции самого, может быть, искреннего – но ведь не единственного, а одного из многих и многих – ортодокса насаждавшейся поэтики Маяковского, приходится выискивать признаки действительно оригинального таланта.
Вот цензура и кинулась, завидев «не то»…
Итак, Асеев – выжил. По счастью. Какой ценой, знаем на примере далеко не его одного, и все же – будем прямы ради понимания сути свершившегося – деградация этого «лирика», каковой по таланту мог бы стать выдающимся, характеризует не только общесоветскую драму литературы. Еще и драму (вину? Но кто здесь судья?) авангардно-революционной переворотности, когда Маяковскому казалось необходимым или, вернее, возможным рвать «связь времен»: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой». Поскольку не объявились, тем более не сформировались другие законы, значит – ура беззаконию? «Клячу историю загоним»! А она ужо так лягнет!…
В смертный миг обнаружится: пафос разрыва – с историей или эстетикой – много опасней, чем даже юношеский эпатаж, тоже, впрочем, достаточно мерзкий («Я люблю смотреть, как умирают дети»).
Это – Маяковский. Асеев, помнится, объявлял, что на «наследное лоно» не стоит даже и оглядываться из победно шествующих «колонн».
СТАРИКИ (3)
Воспоминания противятся выстраиванию концепций еще больше, чем история литературы, но…
– Помните, голубчик, рассказ Марка Твена «Путешествие капитана Стормфмлда на небеса»? Там хромой сапожник – или портной – считается самым великим полководцем всех времен, больше, чем Цезарь и Александр Македонский. Просто ему не представился случай в его земной жизни проявить свои полководческие способности. В искусстве все иначе. У искусства законы жестокие. Ему нет дела до того, почему ты не мог осуществиться…
– Я заметил: если кто-то говорит, что любит Лермонтова больше, чем Пушкина, в нем непременно есть какая- то ущербность. Когда я мальчиком жил у Владимира Васильевича Стасова, меня спросил композитор Глазунов: «Вы любите Пушкина?» Я ответил, что больше люблю Лермонтова. Тогда Александр Константинович взял меня – вот так – за руки и сказал: «Милый, любите Пушкина!» Понимаете, голубчик? Он вовсе не хотел этим сказать, что не надо любить Лермонтова…
– Брюсов?! Злой гений русской поэзии. Скольких он развратил своим: «Все в мире лишь средство для дивно певучих стихов… Только себя полюби беспредельно…» А как ужасно это: «И вот нас повесят, повесят… Мы будем качаться, качаться без пошлой опоры на землю…» Пошлой! И это писалось в эпоху военно-полевых судов!…
А то еще:
– Критика необходима, как фонарь, освещающий улицу. Без нее возможны уличные происшествия.
О ком-то (забыл, о ком именно):
– Он торчит в литературе, как арбузная корка в стоялом пруду.
О молодом Вознесенском, быстро его разочаровавшем:
– Эта лошадь, голубчик, из цирка. Пахать уже не сможет.
Многократное «голубчик» не означало, понятно, какой-то особой приверженности к моей персоне со стороны Самуила Яковлевича Маршака. Да и воспроизвожу обращение, неотделимое, как многим известно, от мар- шаковской речи, не затем, чтобы имитировать его интонацию. Тут другое. Она, ласковая, соответствуя и возрасту, коему положена благость, и внешности человека, у кого от некогда полновесной телесности осталась, кажется, лишь невесомо-немощная оболочка, и, наконец, репутации поэта, сочинявшего «для детишек», не совпадала с энергетической сутью высказываний. Благостности – вот уж чего не было; Маршак учил – неслучайное слово – твердости.
Вплоть до того, что, когда я привел к нему для знакомства жену, он сказал при следующей – с глазу на глаз – встрече:
– Только, голубчик, не балуйте вашу жену. Мой брат (имелся в виду М. Ильин, в свое время известный популяризатор науки. – Ст. Р.), когда был смертельно болен, становился на колени, чтобы завязать шнурки на ботинках своей жены, и как же она оказалась беспомощна, оставшись одна. Без него. Помните, как сказано у нашего с вами любимого Метерлинка?…
«Нашего с вами» – звучит, понимаю, забавно и заставляет вспомнить, как я брал у него интервью по заказу «Вопросов литературы» – оно оказалось для него последним.
Не владея магнитофоном (не овладел и сейчас), я записывал на коленке, пунктирно, его монологи, а ночью, сварив кастрюлю кофе, развернул их, навязав Маршаку Бог знает сколько собственных – как мне казалось – мыслей и наблюдений. Утром явился к нему и, как нашкодивший школьник, схитрил: «Понимаете, С. Я., я записал не только ваши вчерашние слова, но и то, что слышал от вас много раньше». Дескать, не может же он помнить всего.
Черта с два! Старик слушал спокойно и только в местах, где я давал себе волю, вскрикивал: «Молодец!»
После я ухмылялся, встречая в разных статьях «мои» цитаты из «нашего» интервью с присовокуплением: «Как мудро заметил Маршак…», пока не осознал: «моим» все это не было! В такой зависимости я тогда находился от строя мыслей Маршака.
Однако – о «нашем с вами» Метерлинке. С. Я. в самом деле обрадовался, узнав, что среди увлечений моих всеядных студенческих лет был Метерлинк, любимый им, и вообще театр символизма. (Помню, как в целинной палатке 1957-го усыпил своих многочисленных сверстников-студентов, полночи терзая их «Эволюцией творчества Гауптмана», – мы завели там обычай поочередно читать что-то наподобие лекций. Тщеславия ради добавлю, что следующие две ночи заставил их хохотать, читая на память «Теорию пародии» и «Историю Козьмы Пруткова».)
Итак:
– Помните?… Если за розой слишком ухаживать, у нее исчезнут шипы.
И еще про женщин:
– Они ближе мужчин к природе. Они с нею связаны сроками – роды, месячные… Поэтому они лучше нас. Но распутная женщина теряет свое превосходство, приравнивается к мужчине…
Между прочим, и тут ведь – утверждение гармонии, которая для Маршака была формой порядка с жестким сводом правил. Проявлением воли.
«Дорогому Стасику Рассадину для оптимизма» – надпись на дареной книжке; было это в день, когда я не скрыл от него глупую юношескую хандру, и слова выведены уже непослушным пером, которому трудно попасть в одну и ту же точку… Однажды он спросил:
– Вы помните брюсовский перевод «Болезни» Роденбаха?